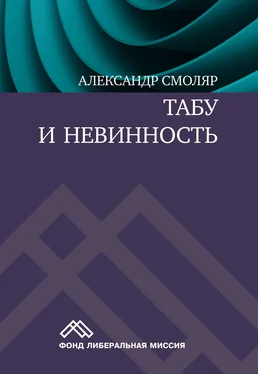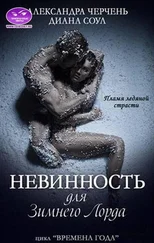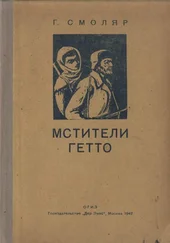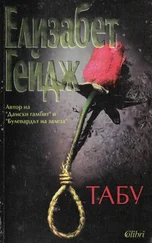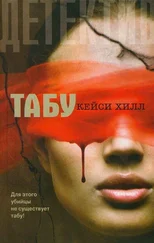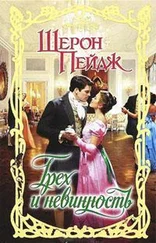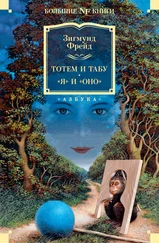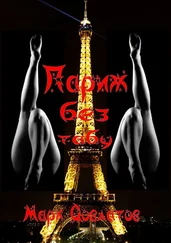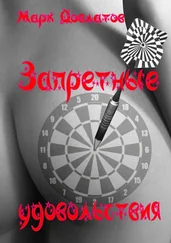Однако его участие в построении современной нормальности в Польше выходит далеко за рамки этого специфического вопроса. Когда мы говорим о «нормальности», а особенно о «нормализации», весьма показана осторожность. В XIX и в начале XX века Великобританию во многих европейских странах (в том числе и в Германии) ставили в пример как образец современной нормальности, однако сами британцы гордились своей уникальностью. Говоря о «нормализации» в Чехословакии после вторжения в августе 1968 года, Советский Союз имел в виду возвращение к коммунистической норме. После объединения Германии в 1990 году консервативные немецкие интеллектуалы говорили о «нормализации» страны. Они были заинтересованы в том, чтобы Германия как народ и государство больше напоминала сегодняшнюю Францию. Но можно ли назвать Францию начала XXI века нормальной? Что же касается Польши, то ситуацию, когда она является суверенной, независимой и самоуправляющейся страной, когда она на равных со своими западными, северными и южными соседями принадлежит к содружеству безопасности и политико-экономического сотрудничества, следует, рассматривая все перечисленное в историческом аспекте, признать состоянием, которое в основе своей является ненормальным – совершенно неизвестным в новейшей истории Польши.
Однако в Европе начала XXI столетия мы приблизительно знаем, что имеем в виду, – даже если наши нормы были в прошлом (и могут, к сожалению, оказаться в будущем) далекими от нормальности. В сферу этой современной европейской нормальности входит политико-юридический суверенитет, добровольно делегируемый в рамках Европейского союза и НАТО. Но к нему принадлежит также своеобразный психологический и интеллектуальный суверенитет в отношении как прошлого, так и будущего. В первом случае он означает состояние, которое я назвал мезомнезией. Это не гипермнезия таких территорий, как Югославия 1990-х годов, с маниакальной погруженностью населявших ее народов в воспоминания о прошлом и с отсутствием ясной границы между ним и настоящим. Но это также и не амнезия Германии 1950-х либо Испании 1970-х. История – вещь известная, причем со всеми своими светлыми и темными сторонами. Она публично задокументирована и признана. Но она не вызывает травматичных терзаний ни общества, ни его коллективного сознания. Я считаю, что лишь после 1989 года Польша обрела шанс выработать для себя «нормальный», или, может быть, скорее здоровый либо, еще точнее, здравый подход к истории. Уже не будучи ее жертвой – в конце концов, страна уже 20 лет принадлежит к стану победителей, – она должна суметь спокойно признать как добро, так и зло собственного прошлого.
Психологически-интеллектуальный суверенитет относится также к будущему. В нескольких местах данного тома Смоляр говорит, что поляки должны научиться думать о себе не только «мы, поляки», но и «мы, европейцы». В качестве европейской страны, с которой считаются другие, Польша имеет теперь все шансы формировать не только собственную судьбу, но и судьбы своей части континента, а также всей Европы в том мире, который становится все менее европейским. (К многочисленным проявлениям публичной деятельности Смоляра принадлежит и участие в группе лиц, руководящих Европейским советом внешних отношений, который занимается выстраиванием европейской внешней политики.) Ведь Польша одна из шести самых крупных стран Европейского союза и единственная региональная держава в его восточной половине. Когда поляки говорят «Запад», то по-прежнему часто думают, будто он находится где-то в другом месте. Сегодня сама Польша представляет собой часть Запада – или же того, что осталось от него в геополитическом смысле во все более пост-западном мире. Запад – это мы.
В качестве литератора и комментатора, в качестве аналитика польской политики, которого уважают польские политические деятели левой и правой ориентаций, а также читатели всего мира; наконец, в качестве президента Фонда им. Стефана Батория, играющего в Польше важную роль форума для цивилизованных дебатов о политике и публичных делах [11] Основной метод работы данного Фонда – оказание финансовой помощи неправительственным организациям, действующим на территории Польши и за границей. На это Фонд направляет 80 % своего бюджета, предоставляя около 400 грантов в год на сумму 14,5 млн злотых (примерно 5 млн долларов США). Фонд ведет также публичные дебаты на темы, связанные с политикой, общественной проблематикой и международными отношениями, публикует исследовательские материалы и организует конференции, семинары и летние школы.
, Александр Смоляр, как мало кто другой, способствовал возникновению современной, европейской Польши, которая и психологически и политически суверенна во взаимоотношениях с Востоком и Западом, с прошлым и будущим. Об этом свидетельствует представленная здесь подборка его эссе, очерков и интервью за последние 30 лет.
Читать дальше