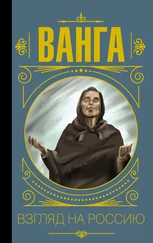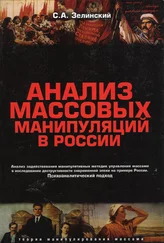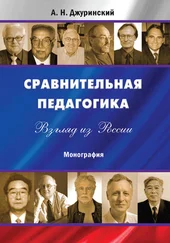Возможность зафиксировать эти «бесписьменные» версии прошлого, вобравшие в себя подобное переживание социального времени, нередко более чем далекое от научности восприятие истории, открылась только с возникновением демоскопии – специальной дисциплины, занимающейся изучением общественного мнения.
В Италии, как и в соседней Германии, зарождение демоскопических методов исследования датируется последним десятилетием XIX в. Первые массовые опросы того времени – тексты массового сознания, – будучи уникальными как по своему методу, хотя и весьма несовершенному, так и по полученным результатам, не идут, разумеется, ни в какое сравнение с современной высокоразвитой «индустрией» социологического зондирования, играющей существенную роль в выявлении политических настроений, в прогнозировании политического поведения массовых социальных слоев и групп.
Однако уже в ту пору была заложена или, по меньшей мере, продекларирована в качестве основополагающего принципа первых демоскопических опытов их независимость от каких бы то ни было целей политического или партийного характера. И тогда же организаторам опросов общественного мнения было суждено принять на себя огонь ожесточенной критики, в чем-то обоснованной, а в чем-то и надуманной, глухие отголоски которой слышны порой и сегодня. В частности, те, кто оспаривал первые начинания итальянской социологии общественного мнения, будучи людьми весьма искушенными в политике, не могли довольствоваться простой верой на слово, которая в силу несовершенства методов идентификации общественного мнения, приемов интерпретации опросных данных по сути дела предлагалась тогдашними демоскопическими исследованиями.
Более того, критики демоскопии прозорливо и обоснованно усматривали в ней новое, небывало мощное средство манипулирования избирателями, способное усугубить состояние несвободы политического выбора. К тому же многие потенциальные респонденты почитали опасным откровенное публичное оглашение собственных политических взглядов, тем более в обществе, организованном по мафиозному принципу. А такого рода соображения значили очень много в Италии конца XIX – начала XX в., где демократизм всего политического уклада был весьма относителен и волеизъявление граждан по политическим вопросам сплошь и рядом подвергалось деформирующему воздействию традиционных общественных структур и репрессивного аппарата государства.
Открытая декларация политических предпочтений, если они расходились с интересами какого-нибудь влиятельного нотабля из когорты власть имущих, могла низвести гражданина до положения социального изгоя, подвергаемого всеобщему остракизму, если не, того более, спровоцировать против него при существовавшем жестком социальном контроле даже некие карательные санкции.
Наконец, была еще одна, по-видимому, достаточно распространенная причина возникновения негативной реакции на демоскопические методы исследования в либеральной Италии. В обществе чрезвычайно консервативном, отягощенном бременем корпоративно-иерархических предрассудков, попытка проникнуть в чужой образ мыслей, критически оценить его столь новым, необычным, даже в чем-то вызывающим способом, воспринималась не иначе как посягательство на самую суть господствующих этических норм. Все эти обстоятельства в своей совокупности консолидировали тот барьер предубеждений, на который неизменно наталкивались инициативы зачинателей итальянской демоскопии [28] См.: Коломиец В. К. Опросы общественного мнения как источник для изучения политических ориентаций итальянцев в конце XIX – начале XX в. // Рабочий класс в мировом революционном процессе 1983 / Отв. ред. А. А. Галкин. М., 1983. С. 256–269; Idem. Libertà, uguaglianza, fraternità nella coscienza di massa in Italia e in Russia alla fine del XIX secolo // Libertà e cittadinanza sociale. I due ‘89: dalla Rivoluzione francese alla Seconda Internazionale / Scritti di F. Bonamusa… Fondazione Feltrinelli. Quaderni/41. Milano, 1991. P. 63–65.
.
При том что историческая тема не была предметом специального рассмотрения в первых зондажах общественного мнения, ее присутствие там достаточно очевидно. Иногда она заложена в самих вопросах социологической анкеты, но чаще история стихийно представлена во мнениях респондентов, логика рассуждений которых, например, о социализме или о милитаристской угрозе, о допустимости участия социалистов в правительстве или о националистических настроениях, неизбежно выводила их на уровень тех или иных, часто неожиданных исторических ретроспекций [29] См.: Inchiesta sul Socialismo // Vita Moderna. 1894. N. 18, 21–22; I codicilli della nostra Inchiesta sul Socialismo // Vita Moderna. 1894. N. 23–25; Il Socialismo Giudicato da Letterati, Artisti e Scienziati italiani, con prefazione di Gustavo Macchi. Milano. 1895; La nostra inchiesta // La Vita Internazionale. 1898. N. 5. P. 129–130; La nostra inchiesta sulla guerra e sul militarismo // La Vita Internazionale. 1898. P. 213–215, 248–249, 281–283, 346, 378–379; Bios. Pagine compilate da E. A. Marescotti. Anno I (1902/03). Milano, 1903; Inchiesta sulla partecipazione dei socialisti al governo // Il Viandante. 1909. N. 28–30; 1910. N. 1–3; Il Nazionalismo giudicato da Letterati, Artisti, Scienziati, Uomini politici e giornalisti italiani. Genova, 1913.
.
Читать дальше
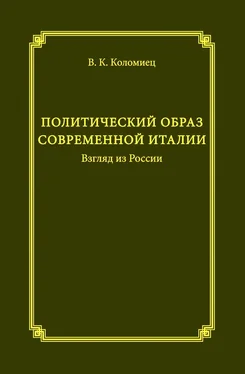




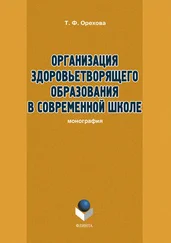
![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)