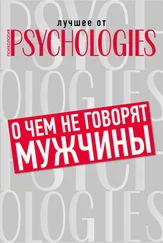Необычность и некоторая туманность аргументации Фергюсона может быть передана известным афоризмом: хвост вертит собакой. Впрочем, суть ее представляется весьма обоснованной. Накал страстей в отношении между вчерашними союзниками по Большой тройке подогревался с большим усердием извне, их «клиентами», получившими большую свободу рук благодаря сосредоточению сверхдержав на глобальных проблемах. Дальнейшее происходило в значительной степени в зависимости от частной инициативы третьих стран, их эгоистических планов и «исторических» претензий и замыслов. Беря за отправную точку отсчета Кубинский кризис и расставляя требуемые акценты, Фергюсон следующим образом формулирует свой центральный вывод: «Кубинский ракетный кризис показал, как близко дело могло подойти к Третьей мировой войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом, несмотря на их возросший разрушительный потенциал. Он также обнаружил, что если они даже захотели бы уклониться от игры в ядерную рулетку, война все равно могла бы разразиться другим путем. Иногда говорят, что достижение состояния “взаимогарантированного уничтожения” возвещает эру мира на земле. Но так говорить – значит не понимать характера холодной войны. Реальная и кровавая Третья мировая война на самом деле велась деятелями вроде Кастро – в третьем мире. Ранее война в мире была следствием лобового столкновения между мировыми империями в конфликтных зонах на границах евразийской территории. Третья мировая война, напротив, велась опосредованно в новых и более отдаленных театрах военных действий, где стратегические ставки (речь идет о человеческих жертвах) были ниже» [1139].
Можно соглашаться или не соглашаться с идеей пространства времени, как она, правда, по-разному воплотилась в способах исторической реконструкции, предложенных Э. Хобсбаумом и Н. Фергюсоном, или в форме внутренней «дружественной» критики, характерной для «Дневника» А. Шлезингера. Но, так или иначе, мы являемся свидетелями смены парадигм вместе с изменением интеллектуальной ауры [1140], общественных настроений и прояснения многих «закодированных» страниц истории холодной войны, в особенности ее раннего, основательно подзабытого и мифологизированного этапа.
Своеобразным сжатым подведением итогов и уроков исторических штудий по проблемам холодной войны за последние (переломные во многих случаях) 20 лет явился одним своим объемом приковывающий внимание критический отклик на выход в свет в 2009 г. трехтомной «Кембриджской истории холодной войны» [1141]. С ним в журнале «Foreign Affairs» (что само по себе знаменательно) за март-апрель 2010 г. выступил профессор военной истории из Королевского колледжа в Лондоне Лоуренс Фридман. Название обзора также говорит о многом: «Обмороженный. Раскодирование холодной войны; 20 лет спустя» [1142]. В развернутой рецензии Фридмана много спорного, но и трудностей, возникших у него, как у рецензента столь объемного и многопланового труда, было также с избытком, хотя бы потому что его редакторы решили ограничиться минимальным вмешательством в тексты коллектива авторов. Он насчитывает 75 компетентных и заслуживших признание исследователей, которые придерживаются не только установленных ими самими правил организации материала, но и во многих случаях выражают несхожие взгляды на все происходившее на земле после 1945 г. Этот разнобой затронутых тем плюс желание редакторов отдать должное человеческому измерению истории эпохи протяженностью более, чем в четыре драматических десятилетия, насыщенных кризисами и спонтанными изломами, способен любого рецензента поставить в тупик. В заочном диспуте с авторами и редакторами монументальной, первой в своем роде коллективной истории холодной войны, Фридман выбирает наиболее разумный, а, может быть, и единственный возможный путь. Он извлекает те само собой напрашивающиеся выводы из сплетения суждений и гипотез множества авторов, которые могут противоречить друг другу, но сходятся чаще всего в главном, что и составляет концептуальный остов труда.
Нам же сейчас важно то, что Фридман, критично отзываясь о самоустранении редакторов издания от задачи представить систематизированный и согласованный взгляд на предмет исследования, пытается восполнить этот пробел собственными рассуждениями – иногда глубокими и точными, иногда поверхностными и расплывчатыми, но вместе с тем отражающими в целом современное состояние аналитических разработок по истории холодной войны на Западе. Характерна, в частности (и здесь Фридман солидарен с Хобсбаумом), констатация той относительной стабильности, которой отличалась эпоха холодной войны, «оставшейся холодной». Сегодня «общим местом, – пишет Фридман, – являются рассуждения о рациональности и предсказуемости действий советского противника прежних лет в отличие от сегодняшних врагов Вашингтона» [1143]. Более того, Фридман ставит под сомнение сам термин «холодная война» по причине того, что он «создает преувеличенное представление об особом значении конфронтации между двумя сверхдержавами» [1144]. Собственно холодная война, утверждает Фридман, поясняя свой вывод, очень схожий с рассуждениями Хобсбаума, лишь «центральная часть» всей истории, которая в полном согласии с идеей пространства времени, оказалась насыщенной более длительными процессами, воплощенными в деколонизации, распаде европейских империй, экономическом подъеме в Азии, в особой роли объединяющейся Европы и феномене приобретающего новые политические формы и влияние ислама [1145].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
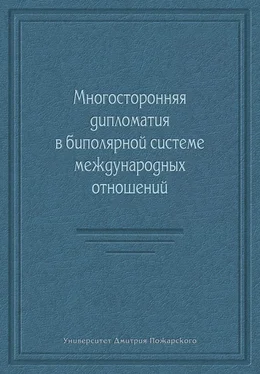






![Коллектив авторов Религия - Старинные рождественские рассказы русских писателей [сборник]](/books/388395/kollektiv-avtorov-religiya-starinnye-rozhdestvenskie-thumb.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/436984/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh-thumb.webp)