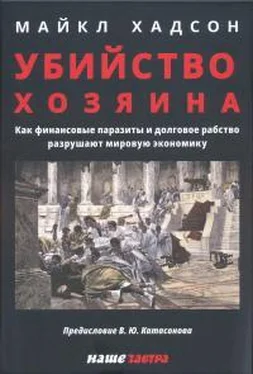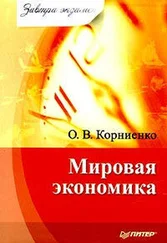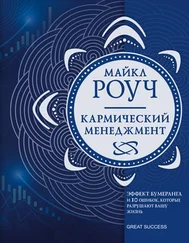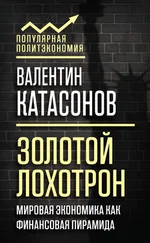Еврозона ограничила свой центральный банк созданием денег только для кредитования коммерческих банков. Это означало создание еврозоны с финансовой системой, контролируемой банками и держателями облигаций. Приватизируя привилегию выпуска денег, традиционно принадлежащую государству, ЕС блокирует финансирование дефицитов бюджета путём создания правительственных денежных средств. Настоящий центральный банк может создавать собственные деньги в качестве альтернативы налогообложению, как это делают Федеральная резервная система США и Банк Англии. Но такого института в еврозоне не существует, благодаря банкам, лоббирующим своё исключительное право создавать деньги и кредит.
«Аполитичный» центральный банк — это оксюморон, сочетание несочетаемого. Предполагаемый «отец евро» — экономист Роберт Манделл, как сообщается, так объяснял одному из своих студентов в Чикагском университете Грегу Паласту: «Евро — это способ, с помощью которого конгрессы и парламенты могут быть лишены всякой власти над денежно-кредитной и налоговой политикой. Надоедливая демократия удалена из экономической системы». Эта идеология угрожает превратить демократии в олигархии, замыкая их в экономике, управляемой банками. Она рассматривает создание государственных денег как инфляционное по своей сути и настаивает на том, что кредит должен находиться под жёстким контролем коммерческих банков.
Идея Манделла по борьбе с инфляцией заключалась в том, чтобы не облагать налогом богатых под предлогом того, что они будут инвестировать свои доходы продуктивно как создатели рабочих мест, а не их разрушители. Кроме того, по Манделлу, ЕЦБ и МВФ стремятся уменьшить влияние профсоюзов, чтобы минимизировать заработную плату — как будто это также не сокращает внутренние рынки, что ведёт к более глубокому бюджетному дефициту.
Евро и ЕЦБ были спроектированы таким образом, чтобы блокировать создание государственных средств для любых целей, кроме поддержки банков и держателей облигаций. Их денежная и фискальная смирительная рубашка обязывает экономики еврозоны полагаться на создание кредитов и долгов банками. Финансовый сектор берёт на себя роль экономического планировщика, поручая денежно-кредитную и фискальную политику своим техническим специалистам без демократического выражения мнений или референдумов по вопросам долговой и налоговой политики.
Воспрепятствование правительствам финансировать дефицит государственного бюджета путём создания денег центральным банком вынуждает их занимать средства у держателей облигаций. Выплаты процентов поглощают растущую долю государственных бюджетов, что ведёт к тому, что держатели облигаций требуют сокращения пенсий, социального обеспечения, медицинского обслуживания и других социальных программ. Такая идеология жёсткой экономии является сутью сегодняшней войны рантье за создание финансиализированной Европы.
Итак, вот в чём проблема: валютный союз должен был стать первым шагом к политическому союзу. Но его пробанковский уклон угрожает расколоть ЕС, вынудив Грецию и другие страны, находящиеся в тисках задолженности, выйти из него. Ни одну суверенную нацию нельзя заставлять страдать от долговой дефляции, фискальной дефляции и постоянного оттока её населения в результате эмиграции, сокращения продолжительности жизни и снижения стандартов здравоохранения, которые преследуют Грецию в соответствии с требованиями жёсткой экономии Тройки.
Именно в этом контексте министр финансов от коалиции «Сириза» Янис Варуфакис объяснял, что его цель не просто спасти Грецию от обнищания, но и спасти Европу, возродив идею, что правительства должны поддерживать трудящихся и промышленность, а не рантье. Она означает общественный контроль над банковской и кредитной, налоговой и регулятивной политикой. Вместо этого исполнительная власть ЕС была использована для блокирования государственных расходов, навязывания жёсткой денежной и финансовой экономии и поддержки финансовой олигархии. Историк Перри Андерсон описывает, насколько это отличается от того, что было обещано, когда в 1957 году было создано Европейское экономическое сообщество: «Референдумы регулярно отменяются, если они препятствует воле правителей. Избиратели, чьими взглядами элиты пренебрегают, избегают собраний, которые их номинально представляют, и с каждыми последующими выборами явка избирателей падает. Бюрократы, которых никто не избирал, контролируют бюджеты национальных парламентов, лишённых даже права расходовать деньги... партии теряют своих членов; избиратели теряют веру в то, что с ними считаются, так как политический выбор сужается, а перемены, обещанные во время выборов, не сбываются или урезаются после занятия кандидатами выборных должностей».
Читать дальше