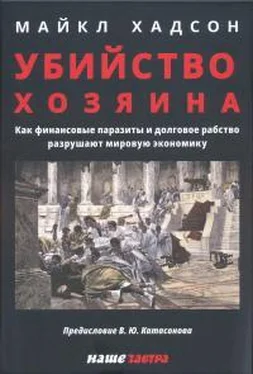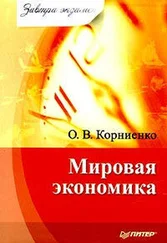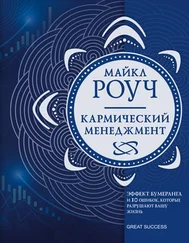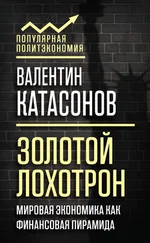Шейла Бэйр «Быка за рога» (2012 г.), стр. 323
Финансовый сектор мобилизовал свои силы во время банковского кризиса 2008 года, чтобы убедить мир в том, что спасение несостоятельных банков восстановит процветание. Скрытая цель состояла в том, чтобы полностью изменить систему прогрессивного налогообложения и финансового регулирования, которыми руководствовалась экономика со времени «Нового курса». Такое изощрённое политическое мошенничество позволило Одному Проценту начиная с 2008 года монополизировать восстановление и увеличить своё богатство и преимущество в доходах перед остальным населением.
Но такой разрыв в богатстве не является результатом какого-либо непреодолимого экономического закона природы. Он отражает систему субсидий, налогового фаворитизма и финансовой помощи (срочных мер по спасению государством), хитро устроенную лоббистами и банковской элитой, чтобы противостоять чувству справедливости большинства людей. Кризис 2008 года предоставил им возможность присвоить огромные суммы и субсидии, угрожая, что в противном случае наступит хаос.
Альтернатива, несомненно, была.
Она означала для банков, держателей облигаций и остальных «ростовщиков», входящих в Один Процент, списание с баланса безнадёжных кредитов как своих убытков. Но Конгресс оставил безнадёжные долги на бухгалтерском учёте, поддавшись ложной угрозе пустых банкоматов и убытков даже на застрахованных банковских счетах.
Идея Федеральной резервной системы об оживлении процветания состояла в том, чтобы опять раздуть новый пузырь, предоставив почти бесплатные кредиты банкам, причём ФРС делала вид, что она не ведёт финансовую войну. В то время как ФРС без особых усилий оказала помощь Уолл-стрит на триллионы долларов в ходе количественного смягчения, администрация Обамы предупредила, что программы социального обеспечения должны быть сокращены для сбалансирования будущих бюджетов. Новые деньги должны были быть потрачены только на финансовые ценные бумаги, а не на материальные инвестиции.
В то время как проценты, амортизация и штрафы по долговым накладным расходам уменьшали потребительские расходы и промышленные инвестиции, банки лишали должников права выкупа и передавали их активы кредиторам. Это способствовало фискальному кризису, подкреплённому хором призывов с Уолл-стрит решить его путём приватизации государственной инфраструктуры и социального обеспечения, сокращения социальных расходов и уменьшения пенсий.
Но каким бы путём отныне ни пошла экономика, вернуться к обычному состоянию до 2008 года невозможно. Таким образом, не может быть и речи о «восстановлении» прошлого, учитывая чрезмерный рост долгов, которые не могут быть выплачены. Есть две альтернативы движения вперёд: либо (1) банки и держатели облигаций понесут убытки, если долги будут списаны; либо (2) экономика столкнётся жёсткой экономией на поколение, поскольку долговая дефляция и приватизация душат рост и восходящую мобильность. В этом случае Один Процент унаследует богатство, а 99 процентов — долговую кабалу.
Политическая цель финансового сектора — это замена демократически избранных правительств и государственного планирования технократами, назначаемыми банками. В первые шесть лет количественного смягчения Федеральная резервная система выпускала деньги для спасения Уолл-стрит, но не для финансирования ощутимого роста или требуемых списаний долгов домохозяйств и «мусорных» ипотечных кредитов, которые «запустили» кризис.
Главная стратегия этих банкстеров заключается в том, чтобы использовать экономические проблемы как возможность для захвата активов из общественного достояния, наряду со способностью правительства взимать налоги и создавать деньги. Вместо того, чтобы облагать налогом богатство рантье и тратить средства на восстановление инфраструктуры, федеральные и местные органы власти вынуждены продавать дороги общего пользования, чтобы покупатели превращали их в платные, почти также, как они создали возможности извлечения ренты в системе здравоохранения.
Как разрешение кризиса 2008 года в корне отличалось от прошлых решений
В течение века банковские кризисы развивались по хорошо понятной схеме. Безнадёжные долги и инвестиции списывались. Депозиты в банках, которые выдавали безнадежные кредиты, сокращались до той остаточной стоимости, которая оставалась после потери права выкупа заложенного имущества, а продажи описанного имущества сметали цены, раздутые за счёт долгов. Эндрю Меллон, министр финансов президента Герберта Гувера, подытожил этот процесс, консультируя президента в ноябре 1929 года: «Ликвидировать рабочую силу, ликвидировать запасы, ликвидировать фермеров, ликвидировать недвижимость. Это вычистит гниль из системы. Высокая стоимость жизни и высокий уровень жизни понизятся. Люди будут работать усерднее, жить более нравственной жизнью. Ценности будут приведены в порядок, а предприимчивые люди будут выбирать из менее квалифицированных людей».
Читать дальше