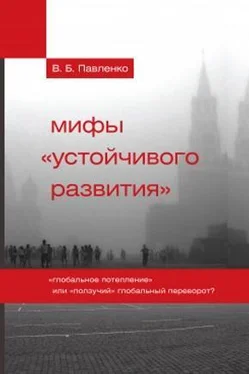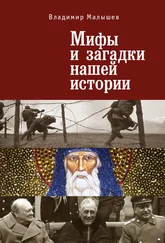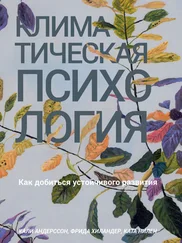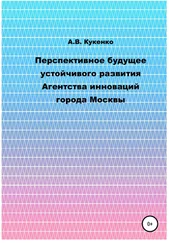Суммируем: объем проблематики «Пределов роста» Пестелем в новом докладе был расширен как минимум в четыре раза. К сугубо экологическим, гуманитарным и социальным проблемам добавлялись вопросы разоружения, затрагивавшие отношения сверхдержав, «общественной эффективности», достижение которой связывалось с внедрением западных институтов и общественного уклада, а также с экспортом в развивающиеся страны технологий, оговаривавшегося в свою очередь целым рядом достаточно унизительных условий.
Упоминался Китай, которому все это было навязано под предлогом его укрепления в противостоянии с СССР. Другим развивающимся странам тоже изобретали врагов — не внешних, так внутренних. С тем, каким образом это собирались проделать и проделали, мы познакомимся в заключительном разделе III.
Теперь же обратим внимание на ряд других вопросов, связанных с докладом Пестеля, тоже важных, но по тем или иным причинам до сих пор не получивших необходимого освещения.
Во-первых, критика «людей, принимающих (точнее, не принимающих. — Авт.)» предложения Римского клуба, у Пестеля сводилась к претензиям в адрес правительственной бюрократии. Звучали обвинения в «окостенении» и отсутствии способностей «предвидеть и смотреть далеко вперед» 166 .
Это и понятно. Сетования на «косность» членов правительств были призваны скрыть явное стремление проигнорировать мнение народов, с которыми в тот момент, по мнению глобализаторов, разговаривать было не о чем. Народы, как увидим в главе 6 и главе 7, потребовались им много позже, когда реализация глобалистских планов вышла из плоскости неофициальных договоренностей между «уважаемыми людьми» в сферу публичной политики. Тогда и прозвучал заимствованный у ООН с ее согласия демагогический лозунг «Мы, народы...», никакого реального отношения к народам, разумеется, не имевший.
Кроме того, Пестель, конечно же, не имел права усмотреть причину неоднозначного отношения к «Пределам роста» в наличии естественных ценностных различий между государствами, принадлежащими к разным цивилизациям («знает кошка, чье мясо съела!»). Но трудно представить, что правительства, которые с осторожностью отнеслись к предложениям Римского клуба, не осознавали, в чьих интересах продвигались эти идеи.
Словом, одних «идей» для достижения своих весьма двусмысленных, если не сказать враждебных, человечеству целей Римскому клубу оказалось недостаточно. Пришлось искать «средства». А именно: «подходы» к части советской элиты. К несчастью, эта спецоперация (а разве нет?), ввиду моральной и нравственной деградации этой самой «части», ее готовности предать и продать национальные интересы СССР и России за «точечное» персональное включение в западную и глобальную элиту, увенчалась полным успехом.
Во-вторых, Пестель попытался встроить в уже появившуюся к тому времени концепцию «устойчивого развития» некую «парадигму органического роста» 93. Из этого, прежде всего, вышел методологический конфуз: парадигма, как известно, в концепцию не вписывается. Равно как и в теорию — того же «глобального потепления», например. Иерархия здесь ровным счетом обратная: парадигма — теория — концепция. По-видимому, из-за этого идея «органического роста» дальнейшего развития не получила и позднее практически была сдана в архив.
Кроме того — и это намного серьезнее: «органический рост» вместе с пристроенным к нему «развитием» был увязан с необходимостью создания управляемой структуры: «Мировое сообщество связано в „комплексную систему“, под которой мы понимаем совокупность взаимозависимых подсистем, а не множество независимых элементов. <...> Взаимозависимость — это факт, и выбирать не приходится» 167 .
Зафиксируем, что взаимозависимость, которой любят спекулировать и сегодня, будучи перенесенной из экологии в политическую сферу, превращается в фактор односторонней зависимости от того, кто определяет правила игры. Или, выражаясь словами североамериканского директора Трехсторонней комиссии Дж. С. Ная-мл., в «фактор силы» хозяина этих правил.
В-третьих, обращают внимание особенности расстановки двух базовых приоритетов доклада Пестеля: ядерного разоружения и окружающей среды.
Рассматривая ядерное оружие в одностороннем порядке как инструмент экспансии, а не сдерживания, в чем, например, видела его роль М. Тэтчер и не только она, Пестель противопоставил ему «баланс сил», который, по его мнению, был способен «не позволить потенциальным противникам поодиночке или в союзе с другими странами добиться превосходства» 95.
Читать дальше