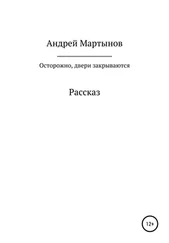Кто же главный враг свободы — в представлениях классиков современного либерализма? Разумеется, тоталитаризм (от латинского totalitas — цельность, полнота).
Ханна Арендт, вводя это понятие в широкий научный оборот («Истоки тоталитаризма», 1951), числила за тоталитаризмом три главных греха:
1) Всеобъемлющая государственная идеология, стремящаяся объять все без исключения стороны общественной жизни.
2) Всеобъемлющий государственный контроль, проверяющий все акты общественной жизни на соответствие универсальной идеологии.
3) Всеобъемлющее государственное насилие, ликвидирующие любое несоответствие заявленной идеологии тех или иных общественных проявлений.
То есть классики современного либерализма выступают против государства как инстанции, представляющей интересы целого. Претензия государства на то, чтобы знать эти интересы, контролировать соблюдения их индивидами и наказывать за нарушение этих интересов — все это тоталитаризм.
На что же может претендовать государство? По мнению штатных либералов, оно может служить чем-то вроде договорной площадки, где участники социальных процессов согласовывают взаимный баланс своих интересов. Перетирают, так сказать, вопросы по понятиям. И вот результатом этих терок и является выдаваемый обществу «общий интерес».
«Так и должно быть! — подтверждает эту мысль один адепт тотального либерализма. — Это баланс интересов между бедным и глупым большинством — и богатым и умным меньшинством, достигаемый путем лоббирования. Без него демократия скатится в охлократию».
Иными словами богатое и умное меньшинство осуществляет некий сговор на уровне государства — а теперь и на надгосударственных уровнях — и спускает результат его в виде законов в общество. Ну, бедное и глупое большинство утирается, оставаясь и далее бедным и глупым.
Такая вот альтернатива тоталитаризму.
Но в чем принципиальный, родовой порок либеральной модели общественного процесса? А в том, что она принципиально отказывается признавать наличие какой бы то ни было инстанции, говорящей от лица целого. Имеют право на существование только частные интересы. Любые же общие — всего лишь производные от взаимодействия массы частных. И никакой собственной, независимой от частных интересов основы государство не имеет.
Каковы практические последствия реализации либеральной модели общественного устройства?
Первой под раздачу попадает христианская церковь. Требований христианства очень точно оценил когда-то Боэций, сформулировав в начале шестого века следующий тезис: «Приверженцами христианской религии объявляют себя многие, но единственно прочна лишь та вера, что зовется католической, или всеобщей. Ибо, с одной стороны, ее авторитет опирается на всеобщие предписания и правила, а с другой — культ ее распространился уже почти во все пределы мира»
То есть основа христианского воззрения на мир — некий свод всеобщих предписаний и правил.
«Всеобщих?! — возбуждается либерал. — Тоталитаризм! Под нож!!!» Никто не смеет присваивать себе право вещать от имени всеобщего, ибо всеобщее — есть лишь производная от столкновения и согласования частных мнений и интересов. И далее идет глобальный наезд на традиционную церковь, стригущую под одну гребенку и умных богачей, и глупых бедняков.
Впрочем здесь я бы либерала даже поддержал. То, что было великим новаторством полторы тысячи лет назад, сегодня выглядит убого и архаично. И претензии церкви на то, чтобы диктовать обществу общие принципы и интересы — действительно смешны.
Вот только либерал на церкви не останавливается. Второй его мишенью становится мораль, природу которой наиболее точно сформулировал Кант: «Поступай так, чтобы правила твоей воли могли бы быть всеобщим законом». Знаменитый кантовский категорический императив. Иначе говоря, мораль обязует человека руководствоваться лишь такими принципами деятельности, которые согодились бы и для любого другого разумного жителя Земли.
Скажем, «По газону не ходить!» Почему? Что плохого случится, если я пройдусь босыми ступнями по мягкой травке? Но если все 7 млрд. человек пройдутся босиком по мягкой травке — газонам конец. Таков внутренний алгоритм моральной оценки любого действия. Сквозь моральное сито проходят лишь те установки, примени которые даже все 7 млрд. человек — ничего страшного не случится, напротив, всем будет хорошо. Такова природа морали. Всеобщность предписаний — ее конек.
Читать дальше
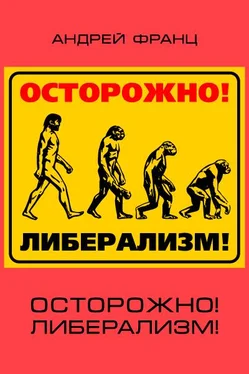
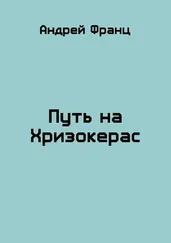
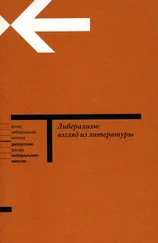
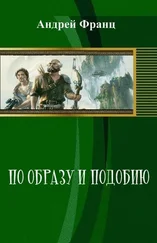
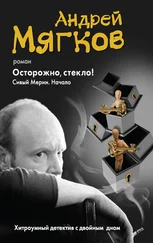
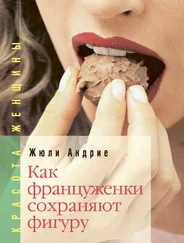


![Андрей Франц - Общество народной демократии. О свободе и демократии для русских. [СИ]](/books/422812/andrej-franc-obchestvo-narodnoj-demokratii-o-svobo-thumb.webp)