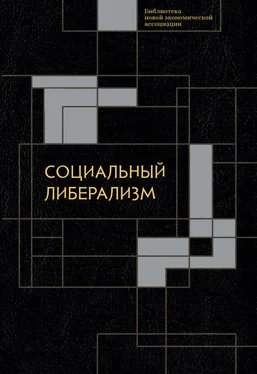Мой аргумент в данном случае совпадает с логикой критики модели рыночного социализма в известной дискуссии О. Ланге и Ф. А. фон Хайека: хотя плановая экономика, в которой объемы производства и потребления продукции совпадали бы с равновесными в условиях рынка, и была бы эффективной, определить эти равновесные объемы производства и потребления в отсутствие рынка невозможно.
Классификация либеральных направлений с этой точки зрения в современной российской социальной мысли приводится в [Новиков, 2006].
Или же требуется ввести допущение, что государственная служба каким-то образом отбирает наиболее «умных» и «способных» представителей общества – вывод, явным образом не соответствующий действительности.
В предельном случае можно утверждать, что рациональность является не столько свойством отдельных индивидов, сколько «критерием выживания» в рыночной экономике, поэтому сам механизм конкуренции на практике будет ограничивать масштабы «отклонений», предсказанных поведенческой экономикой.
Другие способы оценки счастья обсуждаются, например, в [Frey, Stutzer, 2008] и представляют собой прекрасное описание развития эмпирических исследований, о которых говорилось в первой части работы, скажем, использование нейроэкономики как инструмента подтверждения выводов отдельных опросов.
Детальный обзор исследований счастья выходит за рамки настоящей работы; достаточно лишь упомянуть, что этой теме уже сегодня посвящены не только многочисленные публикации, но и специализированный журнал – Journal of Happiness Research.
Другие работы пытаются напрямую моделировать динамику предпочтений и выводить из нее нормативные критерии [Cordes, Schubert, 2011].
Следует упомянуть и более фундаментальную критику: не совсем понятно, на каком основании экономисты в принципе присваивают себе право поиска «подлинной» меры «полезности», то есть формулируют критерии оценки экономических явлений – это, скорее, является задачей философов и социальных мыслителей [Gul, Pesendorfer, 2005].
Например, отсутствие кооперации традиционные экономисты объясняли дилеммой заключенного, а современные экономисты-экспериментаторы – «слабоволием» индивидов [Kocher, Martinsson, Myrseth, Wollbrant, 2012].
В последние годы оно начало проникать и на российскую почву, пионером чего выступила НИУ-ВШЭ (см., например, фундаментальную работу М. Шабановой) [Шабанова, 2012], а также [Шабанова, 2010].
Я говорю, разумеется, о теоретико-идеологической модели обществ модерна, а не о ситуации, реально существующей в каждый данный момент в отдельных обществах на микроуровне.
В этой связи нельзя не упомянуть и об известной проблеме либерализма, заключающейся в противоречии между двумя его базовыми постулатами – правом на свободу и правом собственности. Выступая первоначально, в момент возникновения либерализма как определенной общественной идеологии, как равнозначные, эти права очень скоро стали восприниматься как во многом альтернативные. Суть данного конфликта очень точно охарактеризовал еще Дж. С. Милль [Милль, 1980, с. 373]. И он же предложил выход из нее, основанный на том, что в дилемме свобода / собственность приоритет должна иметь ценность свободы, а институт собственности должен стать лишь средством ее обеспечения и в этом отношении выступать как инструментальная, а не терминальная ценность.
Модернизацию я понимаю в ее неомодернизационной трактовке как протекающий в разнообразных формах с учетом особенностей национальных культур и исторического опыта народов процесс, благодаря которому традиционные общества достигают состояния модерна посредством не только экономической, политической, социальной, культурной, демографической, но и социокультурной модернизации. Под последней я подразумеваю формирование новых нормативно-ценностных систем и смыслов, поведенческих паттернов, а также рационального типа мышления и внутреннего локус-контроля, что в совокупности и создает базу для формирования и успешного функционирования новых социальных институтов.
Подробнее о характере негласного общественного договора периода 1990-х гг. см. [Тихонова, Шкаратан, 2003].
И в этом отношении ситуация в России ближе, например, к Франции конца XVIII в., чем к современной Франции, что достаточно точно отражает этап развития нашей страны на пути перехода от обществ домодерна к обществам модерна.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу