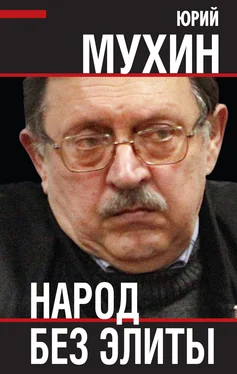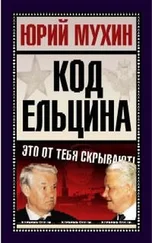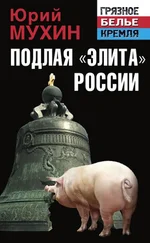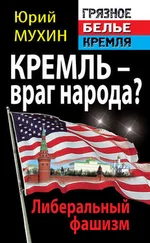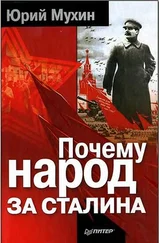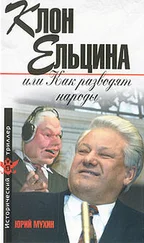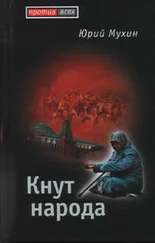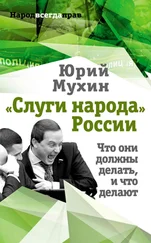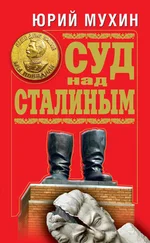В ноябре 14-го года Феодосий Веселаго получил Георгиевский крест за то, что, по словам официальной реляции: “2 сентября во главе своей роты бросился на горящий мост и с боем, перейдя реку Сан, овладел переправой”».
В отдельной главе «Маленькие подвиги» Макаров многословно описывает бой 5 февраля 1915 года двух рот полка по обороне деревни под Варшавой. Многословно, потому что в том бою принимала участие и его рота под его командованием. По этому его рассказу, семёновцы отрыли окопы и целый день вели ружейный огонь по пытавшимся атаковать немцам, итог:
«Когда стемнело, нам привезли патронную двуколку и кухни. А еще через 3 часа мы получили приказание уходить.
Всего за этот день 5 февраля наша 12-я рота потеряла шесть человек убитыми и пятнадцать ранеными, главным образом от артиллерийского огня. Немцы, нужно думать, потеряли много больше».
Остальные описания конкретики боёв гвардейцев — это, по сути, не бои, а уничтожение собственных русских солдат.
Вот бой семёновцев 11 октября 14-го года под Ивангородом (Макарова ещё не было на фронте), о котором Макаров рассказывает со слов единственного оставшегося в живых участника этого боя — подпоручика С. Дирина.
Полкам гвардейской дивизии (лейб-гвардии Семёновскому и Преображенскому) было приказано произвести ночную атаку на австрийские позиции. Третий батальон, в котором командиром 12-й роты как раз и был С. Дирин, атаковал в два эшелона — впереди 9-я и 10-я, за ними 11-я и 12-я.
Немного прервусь. В мирное время гвардейская рота была численностью около 100 человек, а в военное, после пополнения из запаса, — около 200. В роте было три офицера: командир роты — капитан, в крайнем случае штабс-капитан, и два младших офицера — поручики и подпоручики, а в военное время и прапорщики. Причём, описывая мирное время, Макаров ни разу не упомянул в полку о нехватке капитанов, мало этого, с войной в полк вернулись капитаны из запаса — тот же штабс-капитан Макаров. К описываемым событиям война шла всего чуть более двух месяцев, причём гвардия встретила её в Петербурге. Под Варшавой был чуть ли не первый бой гвардии. Вот и вопрос: почему 12-й ротой семёновцев командовал не капитан и даже не штабс-капитан, даже не поручик, а всего лишь подпоручик? Кроме Дирина в роте было не два младших офицера, как требуется по штату, а всего один подпоручик Степанов. Почему в роте не было полного штата офицеров? Куда с войной подевались те толпы офицеров-семёновцев, которых Макаров описывает в мирное время?
Как перед царём на параде маршировать, так в ротах капитанов полно, а как в бой вести, так подпоручики?
Ладно. Вернёмся к описанию боя.
Разведку противника командиры семёновцев не проводили и, где противник находится, не выясняли. Начальство распорядилось: «Атака будет вестись прямо перед собой, до столкновения с противником», — то есть по аналогии с пресловутым современным армейским анекдотом — «от забора до обеда». В 21 час роты в темноте поднялись в атаку, наша артиллерия зажгла сараи в тылу противника, в результате пожар за спиной противника осветил противнику атакующих и ослепил гвардейцев. Оборонявшиеся венгры ружейным и пулемётным огнём перебили практически всех атакующих, даже в атакующей второй 12-й роте подпоручик Степанов был убит, сам подпоручик Дирин был ранен в плечо: «Когда на следующий день подсчитали потери обеих рот (10-й и 12-й), то убитыми и ранеными оказалось чуть ли не около 80 %».
В начале 1914 года к солдатам претензий не было: «На утро офицеры, обходя поле боя, были поражены видом этих рядов солдат, лежавших головами вперед и чуть что не равнявшихся, умирая… Значит, ни у кого не было попытки уйти назад. А ведь ночью это так просто и так легко!»
Кстати, Преображенский полк вообще в атаку не пошёл, посему и не понятно, не была ли атака и семёновцев отменена командиром дивизии, а роты были посланы на убой исключительно из-за идиотизма полкового командира?
Интересно и то, что командование выдало этот военный маразм «батюшке-царю» и прессе за великую победу гвардии, поскольку, дескать, на другой день противник отошёл. Но тут уже и Макаров пишет крайне зло:
«Атака 11 октября успехом не завершилась по той простой причине, что ни один из атаковавших до противника не дошел. С позиции венгры действительно ушли, но на другой день после атаки. Отход их был предрешен до нашей атаки и вызван был неудачей соседней австрийской дивизии на Новоалександрийской переправе. Как могло выйти, чтобы из предполагавшейся бригады пошло в атаку две роты? И как, два дня ведя переговоры со штабом дивизии, не найти было времени сговориться с соседями Преображенцами, которым было “разрешено не атаковать”? Быть может, некого было послать? А что же делал штаб в 16 человек?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу