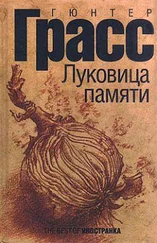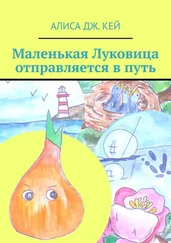Приговоренного к ссылке Троцкого сперва довезли до Тюмени. В вагонзаке. Из Тюмени ссыльных отправили дальше на санях, не забудем, что на дворе – январь месяц. Товарищ Троцкий живописует: "Из Тюмени отправились на лошадях. На 14 ссыльных дали 52 конвойных солдата, не считая капитана, пристава и урядника. Шло под нами около 40 саней. Из Тюмени через Тобольск путь тянулся по Оби. Каждый день мы продвигаемся на 90-100 верст к северу. Благодаря такому непрерыному передвижению, убыль культуры – если тут можно говорить о культуре – выступает перед нами с резкой наглядностью. Каждый день мы опускаемся еще на одну ступень в царство холода и дикости. На 33-й день пути мы доехали до Березова."
Картина замечательная, пером водить товарищ Троцкий умел. Не рассчитал он только в одном, а именно в том, что могут найтись на свете такие неромантичные, приземленные люди, которые не поведутся на красивости, а просто внимательно прочтут то, что он написал. А написал он буквально следующее – едем непрерывно, каждый день в пути, в день обоз проходит 90-100 верст, едем 33 (хорошая цифра) дня. Сколько должен был пройти обоз? На это вам каждый второклассник ответит – три тыщи верст. Тоже мне, бином Ньютона. Однако, бином-то биномом, но как нам быть с тем фактом, что от Тюмени до Березова примерно 900 верст? Не три тысячи, а девятьсот. Умел ли Троцкий считать на уровне девятилетного учащегося церковно-приходской школы? Умел, конечно. Зачем же он рассказывает нам сказки? Зачем он говорит нам, что обоз проходил в день гораздо большее расстояние, чем то было в действительности? А? Как вы думаете?
Ну, что ж. Поедем дальше по маршрутику, который прокладывает в своем мемуаре Лев Давидович, путешествие по-всякому выходит занятным. "За мной, читатель."
Проведя в дороге 33 дня(запомним эту цифру) и преодолев расстояние, о котором Троцкий умалчивает, но которое мы можем легко прикинуть, просто заглянув в географический атлас, он оказался в славном Березове, известном нам по замечательной картине художника Сурикова, запечатлевшего сосланного туда по навету недоброжелетелей светлейшего князя Алексашку Меншикова. В Березове один из ссыльных, идущих по этапу вместе с Троцким, старый добрый доктор Фейт, научил его как симулировать ишиас. Симулянта поместили в местную больничку, а этап ушел дальше. Находясь в больнице, Троцкий немедленно нашел соучастника, некоего Рошковского, который тут же, не отходя от кассы, открыл ему государственную тайну – оказывается, из Березова можно было легко сбежать, только следовало бежать не на юг, не к Тюмени, откуда прибыл Троцкий, а на запад, к Уралу, "через снежную пустыню", где его никто не стал бы искать по той причине, что никому не могло придти в голову, что зимой можно убежать по бездорожью через тундру.
Сказано, сделано, у троцкистов ведь как, у них слово с делом не расходится и любая работа в руках спорится. Что им тундра, что им бездорожье. "Что мне г-о-о-ре, жизни мо-оре бы-ы-ло выпито до дна…" Троцкий как по волшебству (напомню, что все описываемое им происходит в течение нескольких дней, и ишиас, и сообщники, и план, и воплощение плана в жизнь. Рраз, и готов куличик!) находит человечка, который все устраивает наилучшим образом. Человечек оказывается "местным крестьянином по прозвищу Козья ножка". О, эта невыносимая интеллигентская инфантильность! Как крестьянин, так непременно – "Козья ножка". Вы можете себе представить крестьянина с таким прозвищем? Воля ваша, но я, крестьян повидавший и даже среди них поживший, такого даже в дурном сне себе представить не могу. Ну и вот, эта самая "Козья ножка" немедленно находит зырянина, "ловкого и бывалого" (как жаль, что Троцкий и ему имячко не подобрал, наверное, фантазия его была исчерпана Козьей ножкой, поэтому зырянин наш так просто зырянином и остался) и этот славный сын малых народностей Севера и оказался, по словам Льва Давидовича, его спасителем.
Они сели в нарты и… и… и вы не поверите, но они на этих нартах доехали от самого Березова и аж до Уральской железной дороги. Как? Да вот так! И не просто доехали, а за ШЕСТЬ ДНЕЙ.
Слово бойцу революции – "путешествие длилось неделю, мы проделали 700 километров и приближались к Уралу." Между прочим, он чуть ранее написал – "более суток было потрачено на то, что заменить одного из оленей". То-есть, на дорогу у них ушло менее шести дней. Даже на основе лишь этого факта можно сделать заключение, что Троцкий может быть что-то об оленях слышал, может быть, он даже оленей издалека видел (будучи, натурой поэтической, Троцкий, как ему кажется, весьма натуралистично изображает, как олени дышат, по его словам олень дышит вот так – "чу-чу-чу-чу"), но ясно одно – Троцкий ни на каких оленях никуда не ехал. Все эти паспорт в подметку, червонцы в каблук и "чу-чу-чу-чу!" для дураков.
Читать дальше