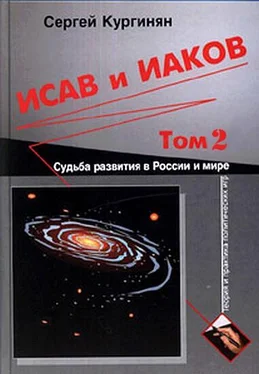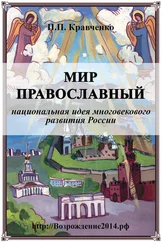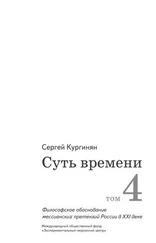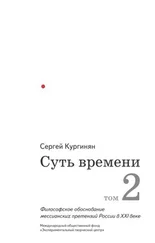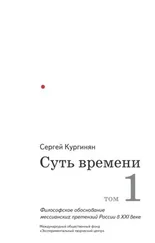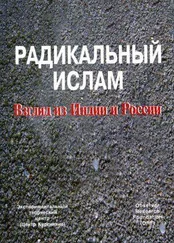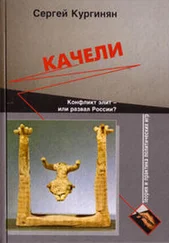Прочитайте Иоахима Флорского, ознакомьтесь с интеллектуальным наследием его последователей, найдите в себе мужество для прочтения хотя бы самых главных западных исследований (ну, хотя бы книг американского исследователя Нибура, на которые ориентирована политическая элита США). И вы убедитесь в главном. В том, что по одну сторону баррикад — прорва, легко берущая на вооружение гностицизм. А по другую сторону — да-да, именно по другую сторону — хилиазм.
Убедившись же в этом, вы поймете, что прорва, даже победив, до смерти боится хилиазма. И именно его считает основой Красного — да и любого другого исторического — проекта. И требует от своей интеллектуальной обслуги (отнюдь не только либеральной, но и как бы ортодоксально христианской): «Даешь защиту от… как там бишь его… хилиазма!».
Вроде бы в чем актуальность подобного требования? Где хилиазм-то? Накаленные толпы бродят по Рублевке или Киевскому шоссе и требуют Тысячелетнего царства? Что за чушь? Почему надо бороться с тем, чего очевидным образом нет?
Между тем во всем, что касается ощущения угроз, прорва адекватна донельзя. Ума в ней нет, а чувствительности, что называется, «до и больше». Заказ прорвы на борьбу с хилиазмом многослоен.
Первый слой связан с демонтажем коммунизма.
Второй слой — с демонтажем хилиазма.
Третий… Четвертый… Пятый…
Можно ли отказаться от революционности как таковой и сохранить историю? Можно ли, отказавшись от истории, сохранить человека?
Переход от одного слоя к другому обнажает и суть прорвы, и уровень ее предельных, именно метафизических, амбиций.
То, что прорва боится хилиазма, понятно.
То, что она хочет добить его до конца самыми разными способами (в том числе, и через отождествление с гностицизмом), тоже понятно.
То, что она, устраивая невиданную оргию потребления, обвиняет в потребительских преступных намерениях хилиазм, опять же понятно.
Но данных пониманий мало. Надо еще понять, что именно стоит за всем этим в качестве предельной метафизической цели. Ради подобного понимания необходимо, прежде всего, констатировать, что борцов с хилиазмом беспокоит НЕ ТОЛЬКО и даже НЕ СТОЛЬКО хилиазм как таковой. То есть, конечно же, хилиазм их тоже беспокоит.
И все же в первую очередь их задача — в искоренении того, с чем хилиазм связан.
Прорва не может прямо заявить: «Мы боремся с хилиазмом потому, что он является почвой для коммунизма и разного рода красных проектов, но мы также боремся с тем, что является почвой для самого хилиазма и почвой для этой почвы». Однако занимается прорва именно этим.
То есть искоренением породивших хилиазм и многое другое и крайне неудобных прорве простых и пока еще как бы очевидных и безусловных для всех слагаемых ЛЮБОГО НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ.
Основное из этих простейших слагаемых — справедливость. «Мы говорим хилиазм — подразумеваем справедливость». Борцы с хилиазмом на самом деле хотят построить христианство, лишенное страсти по справедливому в любом понимании. И, напротив, проникнутое любовью к несправедливому. На первый взгляд кажется, что это вообще невозможно. Но это — если вы начнете в лоб бороться со справедливостью. Заповедь перестройки гласит: «Не борись с хорошим, борись за другое хорошее, противопоставив его тому, что ты хочешь уничтожить». Новые перестройщики, желая уничтожить справедливость, затевают борьбу не с нею, помилуйте. Они затевают борьбу «за жизнь»!
«Ах, вы хилиаст! Наверное, еще и гностик! Так вы против жизни! А мы — за!» Разберем подробнее это «за». «Жизнь минус справедливость» — кто это и когда обосновал, воспел, легитимировал? Не в античности, а в нашем с вами «историческом эоне»?
В XIX веке наиболее внятно, как я уже говорил, отрицал справедливость Фридрих Ницше. Он сказал, что жить — это значит быть несправедливым, а над жизнью нет судьи. Но Ницше отверг христианство даже в его специфическом — вагнеровском — варианте. Он был честен и последователен в своих шагах. Он не выстраивал ницшеанского христианства… Назвав декадентством, оскверняющим жизнь, нечто, он шел до конца. Томас Манн устами своего героя доктора Фаустуса (который, конечно же, в очень большой степени списан с Ницше) обозначил, что именно понималось этим философом в качестве отменяемого нечто, которого «не должно быть».
«Чего не должно быть?» — спрашивает друг Фаустуса. И тот отвечает, что не должно быть «благого и благородного, того, что зовется человеческим… того, за что боролись люди, во имя чего штурмовали бастилии и о чем, ликуя, возвещали лучшие умы, этого быть не должно».
Читать дальше