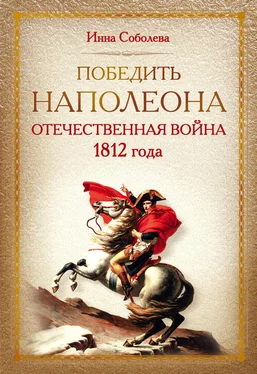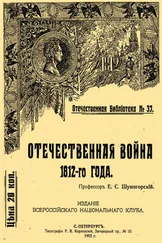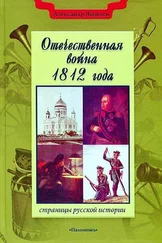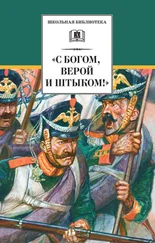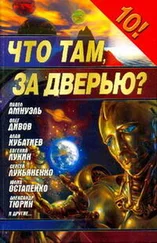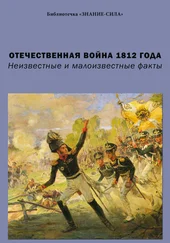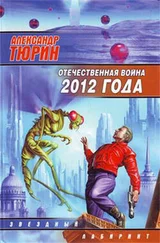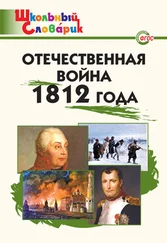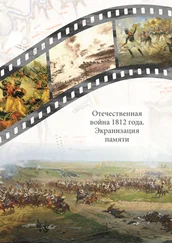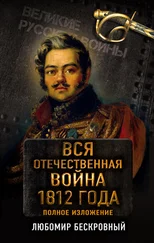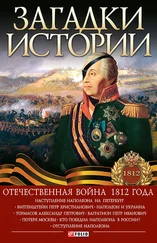Кстати, тон воспоминаний будущего шефа жандармов и главного начальника III отделения Собственной Его Величества канцелярии, его склонность к идеализации образа и поступков монарха вполне понятны: преданность графа Бенкендорфа Александру известна. Но и декабрист Беляев с большой симпатией писал о том, как держал себя в те дни император, называл его ангелом-утешителем и считал, что намерения Александра были самые благородные, а сердце его «было полно любви к человечеству».
Едва вода настолько отступила, что можно стало проехать по улицам, Александр Павлович поехал в Галерную гавань.
Страшная картина разрушений предстала перед ним. Поражённый, он вышел из экипажа и несколько минут стоял безмолвно. Слёзы медленно текли по его лицу. Народ обступил императора с воплями и рыданиями. «За наши грехи Бог нас карает!» – сказал кто-то из толпы. «Нет, за мои!» – ответил с грустью государь.
Вот эти слова, мне кажется, и стали главным итогом того, что ему выпало в тот день пережить. Вряд ли было бы справедливо усомниться в искренности этих слов: слишком мало располагала к лицедейству обстановка, в которой они были сказаны, точнее – вырвались. Полагаю, он на самом деле верил, что Господь карает страну за грехи её государя – за его грехи. И вполне допускаю, что именно глядя на жуткие следы разрушений, на трупы своих ни в чём не повинных подданных, он принял окончательное решение отказаться от власти. Только вот в чём он видел свои грехи? Несомненно, в убийстве отца. Хотя прямой его вины, уверена, в этом не было. Что ещё? Может быть, осознал, как виноват перед народом, так и не выполнив обещаний, которые сулили его подданным достойную жизнь?
Меня занимает вопрос, на который не могу с уверенностью ответить: знал ли он слова Наполеона: «Государь всегда должен обещать только то, что он намеревается исполнить». «Максимы и мысли узника Святой Елены», записанные Лас-Казом (куда среди прочего вошла и эта фраза), были опубликованы в 1820 году и вряд ли остались незамеченными российским императором. И вряд ли слова эти оставили его равнодушным: они явно были адресованы ему, хотя тот, кто их произнёс, и не мог быть уверен, что послание дойдёт до адресата.
И ещё одна мысль старого врага, уже покойного, не могла не задеть Александра: «В отречении монарха есть своего рода ирония: он отрекается тогда, когда с властью его уже не считаются». Он мог бы поспорить с Наполеоном. Да, когда тот вынужден был отречься, с его властью, действительно, уже не считались. Но он-то, Александр, ведь отречься мечтал всегда: и когда власти-то ещё фактически не было, и когда она укрепилась настолько, что никто и помыслить не мог с нею не считаться; и вот теперь… Нет, он и сейчас не был готов согласиться, что с его властью не считаются. Сейчас – другое: он сам чувствует, что его власть исчерпала себя, что его время кончилось.
Такого в русской истории ещё не случалось…
На троне у Александра Павловича (как я уже писала) было две жизни: первая та, о которой сказано: «дней Александровых прекрасное начало»; вторая – в которой военные поселения, шпицрутены, Аракчеев, тайные общества. Некоторые не исключают и того, что была ещё одна жизнь – жизнь старца Феодора Козьмича.
Легенду о таинственном старце даже и обсуждать всерьёз было бы невозможно, если бы Александр Павлович постоянно не возвращался к мысли об уходе. Свидетельств тому множество. Впервые он говорил об этом, будучи ещё юным великим князем, возвращался к этой теме в зените славы, во время триумфальной поездки по России, признавался братьям, Константину и Николаю, а незадолго до рокового отъезда в Таганрог – принцу Вильгельму Оранскому.
А то, что Александр согласился на отстранение отца от престола, повторяю: это не из желания властвовать. Он просто хотел жить: хорошо знал непредсказуемость и коварство отца, его жестокость, удивительным образом уживавшуюся с сентиментальностью, так что был готов и к смерти, и к одиночному каземату Шлиссельбургской крепости. Но какие бы предположения ни допускали историки, даже самые уважаемые, не верю, что он распорядился или даже согласился убить отца.
Поразительно, предшественники Александра I (его дед, бабушка, отец) о троне мечтали, готовы были добиваться его любой ценой. А вот после него… Всех будущих государей трон не манил – пугал. Единственное исключение – его младший брат Николай Павлович. Зато в том, что преемников Николая предопределённая им судьбой и законом о престолонаследии участь действительно тяготила, сомневаться не приходится. Правда, есть одна деталь, отличающая Александра Павловича от его преемников. Да, они не хотели надевать корону. Но, став императорами, получив власть, уже не желали с ней расставаться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу