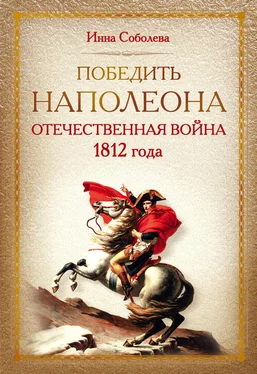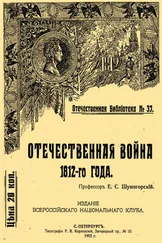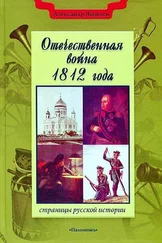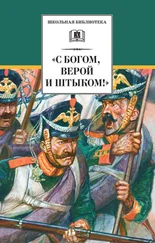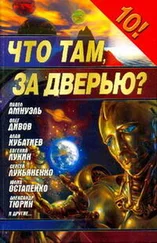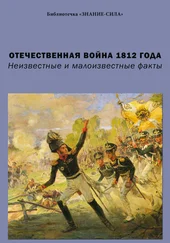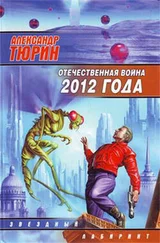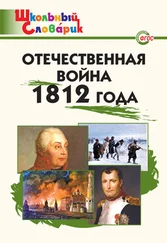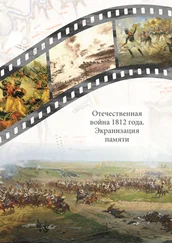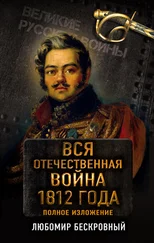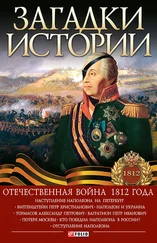Что же до Матвея Ивановича, то в смелости брату он не уступал. Достаточно вспомнить: когда в Семёновский полк были присланы награды за Бородино, командование попросило солдат проголосовать за достойных офицеров. Военный орден «по большинству голосов от нижних чинов седьмой роты полка» получил Матвей Муравьёв-Апостол. Он прошёл со своим полком почти всю Европу. Был тяжело ранен под Кульмом, но вернулся в строй. А брата пережил на долгие шестьдесят лет. В 1863 году ему позволят вернуться из сибирской ссылки в Петербург, восстановят в правах, разрешат носить военные награды: Кульмский крест, медаль 1812 года, солдатский Георгиевский крест (напомню: в это время на троне уже Александр II). В 1873 году он напишет: «Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошлому, я нахожу в нём значительно больше теплоты… Мы были дети 1812 года. Принести в жертву всё, даже самую жизнь, ради любви к Отечеству, было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель тому…»
Знакомство с документами Верховной следственной комиссии по делу декабристов не может не привести к твёрдому убеждению: декабристское движение было рождено самым сильным чувством, владевшим сердцами и умами всех его участников, – чувством патриотизма. Эти прекрасные, мыслящие, дельные молодые офицеры не всегда в совершенстве владели русской грамотой, но они знали, что нужно их народу.
Когда двадцатитрёхлетний Михаил Павлович Бестужев-Рюмин (его и по имени-отчеству редко ещё называли, всё больше Мишель, а то и Мишенька) просит разрешения давать показания по-французски, Николай I злорадно отказывает. А потом неоднократно подчёркивает: вот каковы они, борцы за счастье русского народа! Даже языка, на котором говорит этот народ, не удосужились выучить! Но многие ещё помнят, что незабвенный фельдмаршал Кутузов на совете в Филях, решая судьбу России, говорил по-французски. Может быть, его тоже обвинить в отсутствии патриотизма?
Вильгельм Карлович Кюхельбекер на допросе признал, что вступить в тайное общество его заставила скорбь о порче народных нравов, наступившей вследствие жестокого угнетения. «Взирая на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что всё это задавлено, вянет и, быть может, скоро падёт, не принесши никакого плода в мире».
Павел Иванович Пестель заявлял, что рабство крестьян всегда сильно на него действовало, поэтому именно крепостное право и пренебрежение к личности человека толкнули его на путь активной борьбы против самодержавия. Очень похожими (не по форме, по смыслу) были объяснения большинства декабристов.
Когда их читаешь, ужасаешься слепоте императора, который не увидел (не сумел или не захотел?), какие искренние, страстные со-дельники были с ним рядом, если бы он, в самом деле, хотел усчастливить (так он выражался) свой народ. Это тем более удивительно, что в уставе «Союза спасения» (назывался он ещё союзом «истинных и верных сынов Отечества») цель тайного общества была сформулирована так: «содействовать в благих начинаниях правительству в искоренении всякого зла в управлении и в обществе». Содействие правительству, а вовсе не действия против правительства! Почему бы не пригласить Никиту Муравьёва и Сергея Трубецкого (оба были императору отлично известны) и не спросить, почему это господа офицеры пытаются скрыть от своего государя дела, которые ему не менее, чем им самим, угодны? Глядишь, и пошла бы наша история другим, не таким кровавым путём. Мне могут возразить: откуда Александру было знать, какие цели ставит перед собой «Союз спасения»? Готова согласиться, потому что не уверена, что об этом тайном обществе ему своевременно было известно во всех подробностях.
Но уж о «Союзе благоденствия» он знал всё. Это известно доподлинно. А в его уставе о цели сказано так: «содействовать благим начинаниям правительства». Шёл год 1818-й. С момента создания «Союза спасения» прошло два года. За это время никаких благих начинаний правительства не наблюдалось… У императора ещё оставалось время. Стоило только захотеть… Но его куда больше интересовали отношения с европейскими монархами, чем судьба собственного народа.
Результат плачевен: в 1823 году на съезде в Киеве заговорщики обсуждали вопрос о цареубийстве как начале революционных действий. Было выдвинуто (правда, далеко не всеми поддержанное) требование уничтожить всю царскую фамилию, чтобы избежать в будущем контрреволюционных мятежей во главе с претендентами на престол. Планам этим не суждено было сбыться. И слава Богу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу