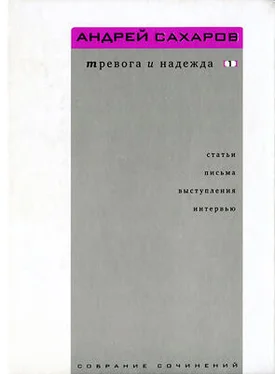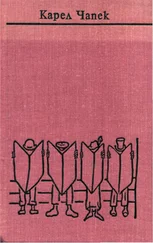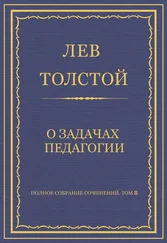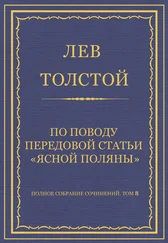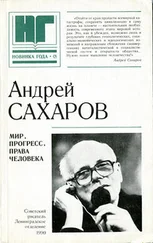Другая обсуждавшаяся в западной прессе проблема — о бойкотах (научных, культурных, экономических и т. д.) как средстве давления на СССР в целях добиться освобождения хотя бы некоторых политзаключенных. После судов над Орловым, Щаранским и Гинзбургом многие западные ученые отказались участвовать в научных семинарах и конференциях, происходящих в СССР. Некоторые научные ассоциации стали вообще отказываться от сотрудничества с советскими научными учреждениями. Я приветствую все подобные формы бойкота как выражение протеста мировой общественности против нарушений прав человека в СССР. То же относится к экономическому бойкоту, например, к отказу в продаже компьютерной техники или нефтебурового оборудования. СССР и другие тоталитарные страны должны знать, что политика защиты прав человека — это не просто красива фраза западных политиков, а выражение общенародной воли в странах Запада, и что продолжение нарушений прав человека несовместимо с продолжением и углублением разрядки. Эту же мысль могут внушать руководителям тоталитарных стран имеющие с ними дело западные бизнесмены, политические и спортивные деятели, юристы и многие другие.
Однако проблема бойкотов — сложная и противоречивая. Несомненно, что соображения внешнеполитического престижа, соображения борьбы за власть и ее удержание в обстановке закулисной борьбы и просто традиции сильной власти не позволяют руководителям тоталитарных государств непосредственно реагировать на оказываемое на них давление. Несомненно также, что бойкоты попутно ослабляют реально полезные контакты и уменьшают число рычагов давления в будущем. Однозначного, пригодного на все случаи жизни ответа в таком сложном деле дать нельзя. Я могу лишь высказать некоторые общие соображения. Мне кажется, что следует, за небольшим числом исключительных случаев, избегать ультимативных бойкотов, то есть не ставить в явном виде прекращение бойкота в зависимость от каких-то конкретных шагов властей. В этом случае бойкот продемонстрирует заинтересованность в том или ином конкретном деле и в то же время не создаст «тупиковой» ситуации, из которой нельзя выйти без потери лица. Я убежден также в необходимости сочетания разнообразных и внушительных публичных кампаний с энергичной и разумно планируемой тихой дипломатией. Важным полем тихой дипломатии могут явиться обмены политзаключенных. Я уже писал, что не понимаю и не принимаю прозвучавших на Западе возражений против обменов. Мне кажется, что в некоторых случаях это почти единственный реальный способ помочь людям вырваться из ада лагерей и тюрем, пусть даже немногим, но он все же прорыв, брешь и, безусловно, ничем не вредит оставшимся, и никак не подрывает авторитета правозащитных организаций, например таких, как «Эмнести Интернейшнл», которая ставит своей целью всемирную политическую амнистию.
Особая проблема — отношение к предстоящей Московской олимпиаде. Моя точная позиция соответствует документу Московской хельсинкской группы — письму Международному олимпийскому комитету и его Президенту лорду М. Килланину, к которому я присоединился. Авторы письма отмечают имеющиеся в СССР нарушения прав человека и предупреждают, что власти намерены на предстоящей Олимпиаде ограничить контакты между людьми в полном пренебрежении олимпийскими принципами; авторы призывают не допустить этого, призывают потребовать прекращения преследований за ненасильственные действия в защиту прав человека, за религиозную деятельность и попытку добиться осуществления права на свободный выбор страны проживания и места проживания внутри страны; призывают освободить всех узников совести. Авторы письма пишут, что они придают большое значение предстоящей Олимпиаде и просят довести письмо до сведения Национальных олимпийских комитетов и спортивных обществ разных стран с тем, чтобы каждый участник будущей Олимпиады мог высказать свое отношение к поставленным вопросам. К сожалению, нам неизвестна реакция Олимпийского комитета на этот документ.
Идеология защиты прав человека — по-видимому, единственная, которая может сочетаться с такими различными идеологиями, как коммунистическая, социал-демократическая, религиозная, технократическая, национально-«почвенная»; она может составить также основу позиции тех людей, которые не хотят связывать себя теоретическими тонкостями и догмами, устав от изобилия идеологий, не принесших людям простого человеческого счастья.
Читать дальше