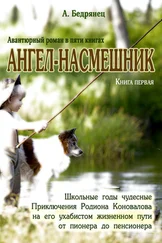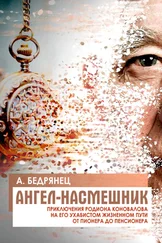При первом общем её осмотре мне показалось, что очень слабо организованы посещаемость и обслуживание посетителей. Не было ещё общего путеводителя, каталога, сколько-нибудь путного плана размещения экспозиций. Не было возможности изучать выставку для командированных: не существовало никаких сезонных или недельных входных билетов. Зато имелось слишком много дорогостоящего «художественного оформления». Потом я несколько дней целиком посвятил осмотру Сельскохозяйственной выставки и всё более поражался неисчерпаемым её содержанием. Поучительны были на ней ветряные двигатели Херсонского завода; автоматические управления гидроэлектростанции; павильон Сибири с железнодорожным поездом на ходу; узбекистанские фруктовые сады; конезавод Курской области; передвижное, дневное кино; подвесная дорога для доставки корма скоту; автомашины с газогенераторами в отдельном павильоне механизации; амурская, сибирская и арктическая флора.
Между прочим, ещё тогда я отметил, что следовало бы на выставке организовать специальные отделы по сельскохозяйственному использованию городских и других отбросов, отвести целый павильон для показа итогов анализов, моделей, планов устройства парниковых хозяйств на помойном мусоре; показать поля запахивания и закапывания; компостирование мусора и отбросов; использование всех видов ила в сельском хозяйстве. Нужно было устроить специальный отдел сельского водоснабжения: устройство сельских водопроводов, каптаж ключей, артезианских скважин, запруд; показать механизмы для водоснабжения, гидравлические тараны и их применение для сельского водоснабжения, показать колодцы всех видов и др. Показать также жилищное строительство в колхозах и совхозах. Подобно яслям (имевшимся на выставке) следовало бы построить участковые сельские лечебницы с огородом, садом, полями орошения и пр. Следовало бы добавить особый отдел зеленых насаждений и зелёных массивов в городах и показать в нём: 1) фруктово-ягодное использование городского озеленения; 2) огородно-овощное, тепличное и оранжерейное хозяйство городов, в том числе — цветочное; 3) лесопарки вокруг городов; 4) механизацию работ в городском садово-парковом деле; 5) борьбу с вредителями; 6) озеленение школ, лечебных и других учреждений; 7) городские питомники.
В этот же период я осматривал посёлок для выселенцев из реконструируемой Москвы, сады и огороды дачников у станции Удельной Московско-Казанской железной дороги. Осмотрел новые центральные площади и вновь построенные мосты — Москворецкий, Устьинский, Б. Каменный, набережные в Замоскворечье и другие вновь построенные набережные. Сильное впечатление оставила поездка на пароходе по Москве-реке и по каналу до Химок и Химкинского речного вокзала.
В 1939 г. на одном из заседаний Ленинградского отделения Всесоюзного гигиенического общества некоторые его члены — А. Я. Гуткин [301], Р. А. Бабаянц, А. И. Штрейс, М. Л. Иоффе и др. — подняли вопрос о том, чтобы отметить на специальном заседании Общества истекавшее в конце года моё 70-летие (как председателя Общества). Я просил правление и Общество не поднимать этого вопроса и вообще не отмечать никакой юбилейной даты, связанной с моей деятельностью. Я настаивал на этом моём желании в особенности потому, что меня ещё не оставили, ещё свежи были воспоминания, связанные с пребыванием в Большом Доме, закончившимся только 9 апреля 1939 г.
Несколько месяцев спустя, знакомясь в правлении Всесоюзного общества гигиенистов в Москве, работавшем под председательством Н. А. Семашко, с материалами заседаний правления ленинградского отделения Общества, я обратил внимание на запротоколированное моё нежелание устраивать юбилейное чествование. Но, тем не менее, мне было приятно получить по поводу этого личные письма от Николая Александровича Семашко и Альфреда Владимировича Молькова. Мне кажется, имеют интерес следующие слова из письма Н. А. Семашко:
«…Из протокола я узнал о Вашем 70-летии. Горячо поздравляю Вас и желаю Вам „остаться самим собой до тех пор, пока в состоянии работать и жить“. От души желаю, чтобы это продолжалось многие и многие годы. Крепко жму руку. Н. Семашко. 28. П. 1940 г.».
Альфред Владиславович Мольков в своём письме от 29. П. 1940 г. писал:
«Глубокоуважаемый Захар Григорьевич! Узнав из присланной стенограммы о том, что Вам стукнуло (увы!) 70 лет, я не могу отказать себе в удовольствии выразить живейшую радость, что указанный рубеж Вы переходите в состоянии далеко не исчерпанных жизненных сил, бодрости, живейшего участия в советской стройке, причём окружённый общей любовью и уважением.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
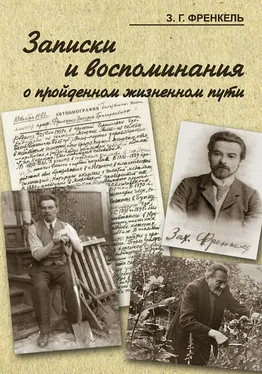


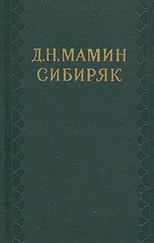
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)