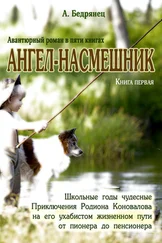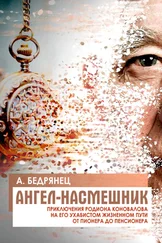В двадцатую годовщину смерти Ф. Ф. Эрисмана, друга и товарища Е. А. Осипова по строительству нашей общественной медицины и одного из основателей у нас кафедры современной научной гигиены, я выступил с докладом о нём в ленинградском Гигиеническом обществе и очерк мой «Эрисман, как выразитель высшего гигиенического синтеза» удалось напечатать в «Ленинградском врачебном журнале» в 1936 г.
Много труда затратил я, стараясь убедить работников советского здравоохранения и теоретиков советской социальной гигиены добиваться включения в обнародованный в 1936 г. проект Конституции СССР особой статьи: наряду со ст. ст. 118 и 119 о правах гражданина социалистического общества на труд и на отдых — также «права на здоровье». Ни доклад мой по этому вопросу в Ленинградском отделении Гигиенического общества, ни письма, посланные моим влиятельным друзьям, никакого видимого действия не оказали. Но я и теперь остаюсь при твёрдом убеждении в правильности моего предложения.
В 1935–1937 гг. в работах ленинградского Института коммунального хозяйства заметное место занимали обследования ведущегося в широких размерах школьного строительства в целях выработки планировочно-строительных нормативов и обеспечения необходимого благоустройства и оборудования школьных зданий, участков и кварталов. Я принимал очень активное участие в этих обследованиях.
При проектировании школ труднее всего было добиваться соблюдения нормативов о школьных садах, площадках и об озеленении прилегающих участков. При обследовании вновь построенных зданий в разных частях города, особенно в периферических его районах (Полюстрове, Лесном, на Петроградской стороне), но также и в некоторых центральных районах, бросались в глаза полное отсутствие внимания и заботы как у строительных организаций, так и у школьного ведомства и органов коммунального хозяйства, к вопросам благоустройства окружающей территории. В осеннюю слякоть и в весеннюю распутицу, идя в школу, дети вязли в грязи, попадали в лужи и, естественно, это отражалось на загрязнении раздевальни и других школьных помещений. Я настаивал на том, что устройство хотя бы нешироких, в 1–2 м шириной пешеходных полос, хорошо ограждённых от затопления лужами и грязью, должно считаться задачей при всех условиях наиболее неотложной. Отстаиванию первоочерёдности безотлагательного строительства тротуаров на жилых улицах и изложению нехитрой техники и механизации в этом деле я посвятил специальную статью в изданном ЛИКХ сборнике «Строительство Ленинграда» (1938. № 1).
Лето 1936 г. памятно тем, что я, наконец, осуществил давно задуманный мною план навестить вместе с сыном Иликом моих старух-сестёр в Остре. После такого трагического крушения Попенковского гнезда [286] С началом коллективизации проживавшие на хуторе Попенки Вера Григорьевна и Софья Григорьевна подверглись жестоким преследованиям со стороны местных властей. Несмотря на активное участие их братьев и сестры Евгении в революционном движении, их хозяйство (4 десятины под садом и огородом) было объявлено «помещичьим, кулацким»; Веру Григорьевну лишили пенсии, обеих сестёр лишили избирательных прав и, наконец, 18 сентября 1931 они в 24 часа были выселены из родного дома и вынуждены были скитаться по съёмным комнатам в г. Остре. Лишившись средств к существованию, старые женщины сильно бедствовали, особенно во время ужасного голода на Украине в 1932–1934 и смогли выжить только благодаря помощи Захария Григорьевича и посылкам Евгении Григорьевны.
, Вере восстановлена была в конце концов её пенсия народной учительницы. Вместе с Соней жили они в Остре, в уступленной им небольшой комнате в домике бывшей сослуживицы Веры по работе в земской школе. Вера упорным трудом обратила в огород с несколькими грядками прилегавшую к окнам жилья часть двора и здесь же держала несколько ульев. Пчёлы были её страстью, и в трудное время мёд выменивался на кусок хлеба. Я не представлял себе, как могла жить Вера, с её неукротимой неуёмной потребностью в общественной работе, в оторванности от школы, в вынужденном уединении. У нас установились полные взаимного уважения постоянные отношения, поддерживаемые регулярной перепиской. Правда, письма — обстоятельные и подробные, согретые тёплой лаской, писала Соня. Вера всегда в письмах была немногословна. Я с неизменной регулярностью посылал едва покрывавшую потребность их скромной жизни сумму — 300–350 рублей в месяц. И так же регулярно Екатерина Ильинична снаряжала и отправляла далёким «старухам» посылки: два-три килограмма муки и сладкое. Вера, никогда в жизни ни от кого не принимавшая помощи, полагаясь только на свой труд и личный трудовой заработок, примирилась с необходимостью и рассматривала присылку денег от меня, как небольшую прибавку к слишком скудной пенсии народной учительницы, прибавку, выплачиваемую из того же народного источника одним из тех, на кого она тратила свою трудовую энергию в лучшие годы своей полной самоотречения и ригоризма жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
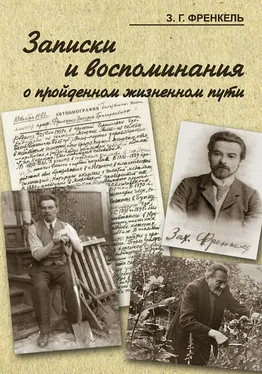


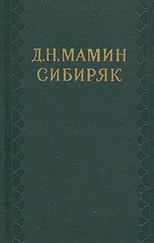
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)