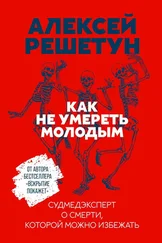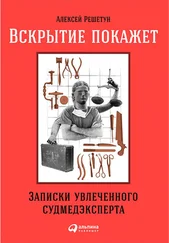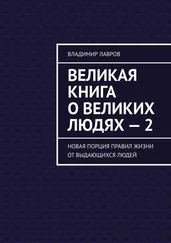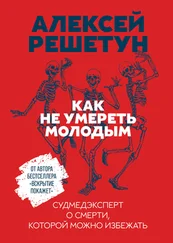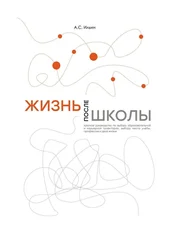«Опять это слово, — невольно подумал я. — Не слишком ли много значения придает этому доктор?»
«Да, именно, в человеколюбии, — продолжал эксперт. — К сожалению, врачи сейчас, после всех реформ, убивших медицину, не лечат, а оказывают медицинские услуги, которые не предусматривают таких мелочей, как сострадание и сочувствие. Нельзя сострадать за деньги, а бесплатно делать это почти разучились. Знаете, я, особенно в последние годы, нередко представлял себя в роли клинициста, ежедневно общающегося с пациентами, и думал, смогу ли выжить в условиях современной медицины. И понял: нет, не смогу. Или должен буду стать частью системы, что для меня неприемлемо. Читая показания потерпевших по таким делам, часто обращаешь внимание на то отчаяние, с которым люди пытаются достучаться до врача. Например, женщина просит врачей перевезти ее пожилую мать на лечение в областной город, где, по ее мнению, матери окажут более квалифицированную медицинскую помощь. Врачи отказываются это делать, понимая, что женщина нетранспортабельна, и вместо того чтобы объяснить все дочери, грубо просят ее не мешать им работать. Больная вскоре умирает, и исход этот был неизбежен в той ситуации, но дочь покойной подает в суд на больницу из-за неоказания медицинской помощи. Конечно, никакой судебной перспективы в данном случае нет, и врачи не виноваты в смерти женщины, но потребуются несколько месяцев напряженной работы судебно-медицинских экспертов, множественные консультации и помощь адвокатов для того, чтобы это установить. Не говоря уже об уничтоженных нервах дочери умершей. Если бы с самого начала врачи повели себя по-другому, не было бы ни иска, ни суда, ни всего остального.
Или другая история. Молодой человек поступает в больницу с жалобами на боли в животе, говорит, что болеет уже четыре дня, боли не проходят, а только усиливаются. Его обследуют, выставляют диагноз «острый аппендицит» — состояние, требующее экстренной операции, — и оставляют в палате почти на десять часов. Причину такой задержки операции установить так и не удалось. Все это время жена парня, подозревая, что диагноз серьезный, неоднократно просила врачей провести операцию, но слышала в ответ отказы и отговорки. Парня в итоге прооперировали, аппендицит оказался гангренозным, развился перитонит, лечение которого потребовало нескольких повторных операций, однако они не помогли, и пациент умер. Любой врач, даже не хирург, даже студент понимает, насколько опасно промедление с операцией при аппендиците. Почему в данном случае ее не делали — не понятно. Естественно, женщина подала в суд на больницу, и знаете, что самое интересное? Экспертиза не установила прямой вины врачей в смерти пациента».
«Как же так? — изумился я. — Ведь человека, так сказать, залечили. Вы же сами сказали, что он десять часов лежал в палате!»
«Верно. Но верно и то, что он четыре дня болел и не обращался за помощью. Скорее всего, гангренозный аппендицит развился именно в этот период, то есть имело место позднее обращение за помощью, и поэтому прямой причинно-следственной связи между неоказанием лечения и смертью пациента нет. А раз нет прямой связи, то нет и ответственности. По закону? Да. Справедливо? На мой взгляд, не очень. Не всем удается понять эти тонкости причинно-следственных связей, отсюда и мнение о «цеховом братстве» и о том, что эксперты «покрывают» врачей».
«А что, неужели не «покрывают»?» — не поверил я.
«Бывает, конечно, не без этого. Я знал одного эксперта, который работал в морге при одной из больниц. Естественно, в этот морг поступало много трупов из стационара. Так вот, одна из задач эксперта, который исследует труп из стационара, — это установить категорию расхождения диагнозов. Вы знаете, что это такое, или объяснить?» — поинтересовался эксперт.
Я понятия не имел, о чем идет речь, и объяснение последовало.
«Существуют два вида диагноза: кинический — то есть тот, который поставили больному в стационаре, и судебно-медицинский, или патологоанатомический, который выставляет эксперт или патологоанатом после вскрытия. Если эти два диагноза совпадают, то все прекрасно, грубо говоря, от чего лечили, от того и умер. А вот если не совпадают, то возникают сложности. Есть три категории расхождения диагнозов. Первая — это когда у врачей, например, просто нет времени на диагностику. Допустим, поступает больной по скорой. Врачи «Скорой помощи» по каким-то симптомам ставят диагноз «инсульт», больного привозят в больницу, успевают завести на него историю болезни, но этим все и заканчивается — человек вскоре умирает. На вскрытии оказывается, что у него был не инсульт, а черепно-мозговая травма, то есть налицо несовпадение клинического и судебно-медицинского диагнозов. Категория расхождения в данном случае первая, самая легкая, поскольку у врачей просто не было временной возможности поставить правильный диагноз. За расхождение первой категории почти не наказывают — врачи не виноваты. Бывает, что в медицинском учреждении нет врача определенной специальности, эта причина несовпадения диагнозов объективная, и в таком случае категория расхождения — вторая. Она уже серьезнее в плане последствий для больницы и для конкретного врача. И, наконец, расхождение третьей категории — те ситуации, когда врачи своими действиями или бездействием, грубо говоря, угробили пациента. Проморгали острое состояние, хотя имели все необходимое для спасения жизни, не обращали внимания на конкретные симптомы определенного заболевания, продолжая лечить от другого, и тому подобное. Расхождение третьей категории — это всегда скандал, разбор случая на самом высоком уровне, штрафы для больницы и врача, а иногда и уголовная ответственность.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
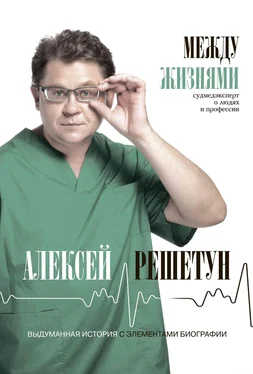

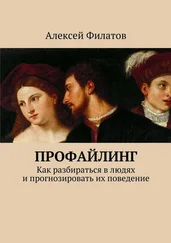
![Алексей Решетун - Вскрытие покажет - Записки увлеченного судмедэксперта [со всеми иллюстрациями (16+)]](/books/35025/aleksej-reshetun-vskrytie-pokazhet-zapiski-uvlechenn-thumb.webp)
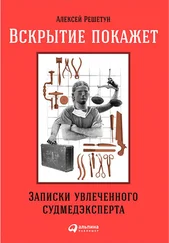
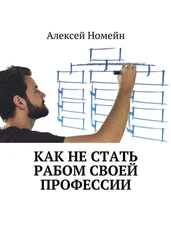
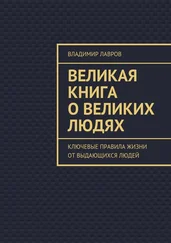
![Алексей Решетун - Вскрытие покажет - Записки увлеченного судмедэксперта [3-е изд., расш. и доп.]](/books/387213/aleksej-reshetun-vskrytie-pokazhet-zapiski-uvlechennogo-sudmedeksperta-3-e-izd-rassh-i-dop-thumb.webp)