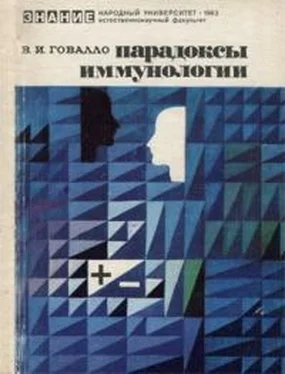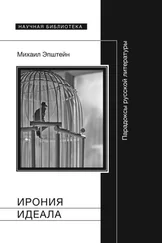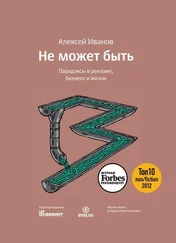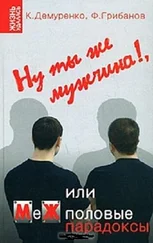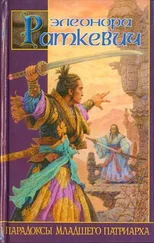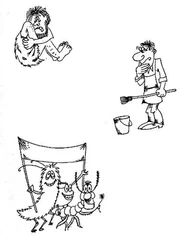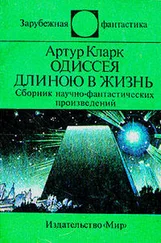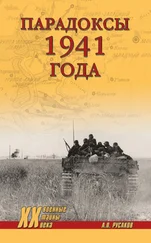* * *
Медицина, видимо, с самого начала возникла как особая отрасль знания, оторванная от обычного, будничного языка и понимания. Раньше врачи, желая скрыть что-то в своей беседе от пациента, переходили на латынь. Нынешним медикам этого делать не надо, специальная медицинская терминология с лихвой восполняет незнание ими латинского языка. Хитроумный наполеоновский дипломат Талейран, словно бы по поводу медицинских изъяснений, говорил: "Язык нам дан, чтоб скрывать свои мысли". Оставаясь во многом наукой описательной и вобрав в себя последние достижения генетики, химии, инженерной мысли, медицина не выработала единого, монистического языка. Поэтому представители различных медицинских дисциплин оперируют достаточно несхожими терминами, говорят на сильно отличающихся специальных "диалектах".
Ещё более труднодоступные Гималаи специальных терминов закрывают путь в страну "Иммунологию". Практические врачи избегают читать иммунологические работы, с первых же слов встречая в них лавину формулировок, далёких от медицинского обихода. Существует грустная шутка, что в иммунологии один специалист не понимает другого. Всё в большей степени эта наука заимствует термины из английского языка, причём зачастую без всякой к тому необходимости.
Следствием сложной фразеологии служит тот водораздел, который пролёг между практической медициной и иммунологией, относительно малый приток молодых сил в эту новую науку, да и недопонимание её важности общественными институтами. А ведь мысль о том, что чем свободнее люди понимают науку, тем охотнее они в неё погружаются, не является новой. В каждом поколении какая-нибудь область знания и деятельности становится особо привлекательной для одаренных умов. В одни годы юные таланты испытывают тягу к философии или физике, в другие — они посвящают себя инженерной или космической деятельности. Р. Юнг пишет: "Внезапно (никто не знает, как это случается) наиболее чуткие души улавливают, где только поднята целина, и нетерпеливо устремляются туда, чтобы не только принять это новое, но и приобщиться к числу его основоположников и властителей". Хотелось бы надеяться, что завтра в этом отношении наступит черёд иммунологии, этой "страны Эльдорадо" для любознательных умов и неутомимых искателей.
Вся история охоты за микробами полна нелепейших фантазий, блестящих откровений и сумасшедших парадоксов. А в соответствии с этим другая молодая наука, наука об иммунитете, носила точно такой же характер.
Поль де Крюи

Калейдоскоп бактериологических открытий. Пауль Эрлих — забывчивый гений биологического эксперимента. Химия против микробов. Антитоксический иммунитет связан с жидкостями. И. И. Мечников — гений биологического воображения. Лейкоциты истребляют микробов. Фагоцитоз — это клеточная защита. Скрещенные шпаги доказательств. Нобелевское примирение. Споры не стихают.
В истории микробиологии было славное десятилетие, подобное которому эта наука не переживала ни до, ни после этого. Всего за несколько лет, с 1876 по 1884 г., та славная когорта ее представителей, что называла себя бактериологами и утверждала, будто все невидимые глазом живые неприятели имеют форму палочек (от греч. bacteria — палочка, logos — учение), потрясла мир фейерверком открытий. Именно в эти годы были разработаны основные методы бактериологических исследований и открыты возбудители многих инфекционных заболеваний.
В 1876 г. никому до того не известный санитарный врач из предместий г. Познани Роберт Кох, работая дома без специальной лаборатории и библиотеки, оперируя слабеньким микроскопом, керосиновой лампой и домашней посудой, сделал великое открытие: первым описал жизненный цикл микроба, вызывающего у домашних животных страшное заболевание — сибирскую язву. В 1879 г. Альберт Нейссер обнаружил первого микроба из группы кокков (от греч. kokkos — зерно) — гонококка; в 1880 г. были открыты брюшнотифозная палочка и стафилококк (от греч. staphyle — гроздь винограда); в 1881 г. — пневмококк и стрептококк (от греч. streptos — цепочка); в 1882 г. — возбудители сапа и туберкулёза; в 1884 г. Кох, называемый к тому времени уже "отцом бактериологии", описал холерного вибриона (от лат. vibrio — извиваюсь); в том же году ученик Коха Лёффлер обнаружил дифтерийную палочку. В мире наступил "бактериологический бум", микроскопы исследователей были объявлены спасителями человечества, не только широкая пресса, но и писатели превозносили охотников за микробами.
Читать дальше