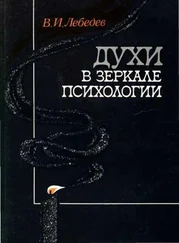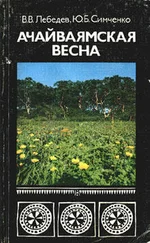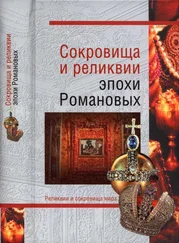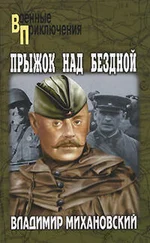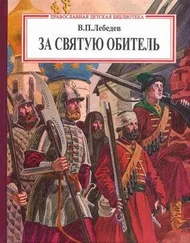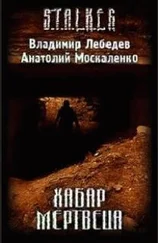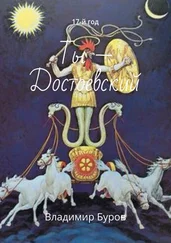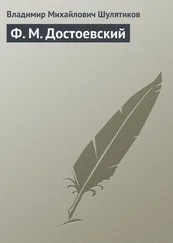Творческое отношение Достоевского к Евангелию подтверждается, на наш взгляд, и тем, что наиболее яркое его литературное новаторство – полифония – в чем-то аналогична полифонии священной книги.
Мысль об оптимизме Достоевского мы старались провести по всей книге, особенно подчеркнув ее в гл. IV. Отвергая мнения тех, кто противопоставляет Достоевского всей русской литературе как певца страдания, одиночества и отчаяния, мы солидарны с Ю. Ф. Карякиным, говорящим о его «гениальном жизнелюбии и жизнетворчестве», и режиссером Ю. Завадским, утверждавшим, что сегодняшний современный русский Достоевский – «это светлый» борец-гуманист.
«Психотерапевтические» идеи Достоевского никак не затронули ни фрейдистский, ни экзистенциальный психоанализ, хотя и сам Фрейд, и экзистенциалисты необоснованно пытались интерпретировать его творчество как предтечу своих концепций. Минуя оба важных этапа развития западной психотерапии, Достоевский вплотную, как мы видели в гл. IV, подошел к сменившей их гуманистической психотерапии Роджерса, сближающейся также с патогенетической психотерапией пограничных состояний В. Н. Мясищева.
Говоря о влиянии Достоевского на свое творчество, классик немецкой литературы XX века Томас Манн отмечал: «Достоевский – но в меру... с мудрым ограничением...» Однако величина этой меры всегда функционально зависима от общественных проблем. Сейчас социальное развитие проблемы психического здоровья настолько сложно, что «мера» потребности в прозрениях Достоевского о путях их решения чрезвычайно велика. Д. Гранин считает, что потревожить «совесть сегодняшнего человека непросто. Она защищена ловко и надежно. Но Достоевский умеет, может, как никто другой, добираться до нее – в этом он один из современнейших писателей». [123]
Преодолеть высокомерие здорового и увидеть собственные недостатки, ограничивающие свою и чужую свободу, рассмотреть в другом, даже в психически нездоровом, «здоровое» и излечить «больные мысли» можно, обратившись к Достоевскому. Если авторы книги, рождавшейся в жарких творческих дискуссиях, открыли читателю путь к этой мало исследованной области творчества Достоевского, то они считают свою задачу выполненной.
Актуальные проблемы психогигиены и психопрофилактики. Л., 1988. С. 35–36.
Из материалов к докладу В. М. Бехтерева о Ф. М. Достоевском, сделанному в 1913 г. Архив В. М. Бехтерева.
Финкельштейн В. И. Расстройства аффективной деятельности в отражении художественной литературы // Труды психиатрической клиники (Гедеоновка). Вып. 1. Смоленск, 1930. С. 198.
Зурабашвили А. Д. Персонологические искания. Тбилиси: Холовнеба, 1977. С. 159.
Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. С. 16.
Ф. М. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 305.
Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. Т. I. С. 15.
Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М., 1964. С. 49.
Здесь и далее при цитировании Достоевского первой цифрой будет обозначен том, второй – книга, третьей – страница в академическом издании его сочинений.
Достоевский: Материалы и исследования. Т. I. С. 6.
Кирпотин В. Я. Мир Достоевского. М., 1980. С. 246.
Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 88.
Гессе Г. Степной волк // Иностранная литература. 1977. № 4. С. 181.
Бахтин М. М. Литературно-критические статьи. М., 1986. С. 342.
Шкловский В. За и против: Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 12.
«Генность» означает причину. Присоединение приставки «психо» свидетельствует о влиянии психотравмирующей ситуации, «экзо» – о внешнем повреждающем воздействии на мозг, «эндо» – о наследственной предрасположенности.
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964. Т. 1. С. 142.
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I. С. 142.
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. I. С. 141.
Луначарский А. В. Достоевский в русской критике. М., 1956. С. 450–451.
Та м же. С. 551.
Б. Ф. Поршнев. Социальная психология и история. М., 1966. С. 81.
Мережковский Д. С. Собр. соч. М., 1914. Т. IX. С. 110–111.
Ковалевская С. В. Воспоминания, повести. М., 1986. С. 115–116.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
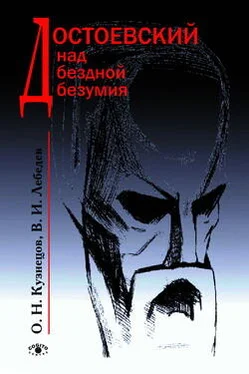
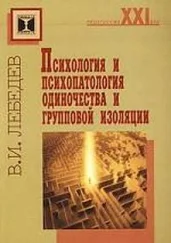
![Владимир Белобородов - Сорвать цветок безумия. Империя рабства [СИ]](/books/31693/vladimir-beloborodov-sorvat-cvetok-bezumiya-imper-thumb.webp)