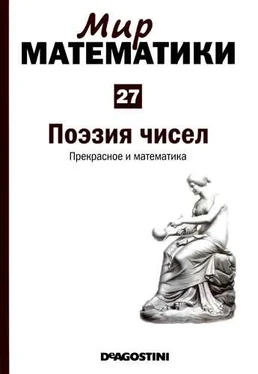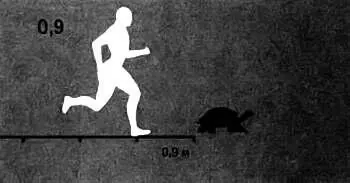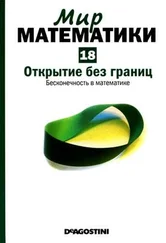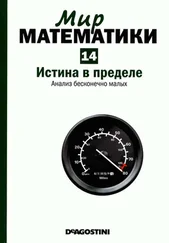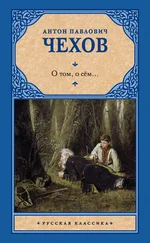Для эстетической оценки этого нового искусства, сложного, иногда странного и даже сумасбродного и как никогда изменчивого, история искусства почти так же важна, как способность видеть.
В XIX веке в математике тоже начался процесс последовательного абстрагирования, кульминацией которого стало помещение практически всей математики в атмосферу теории множеств, на первый взгляд стерильную и инертную. Великим вдохновителем этого процесса был немецкий математик Георг Кантор, а движущей силой — жажда понять и обуздать страшнейшее из математических чудовищ — бесконечность. Словно бы доказывая, что определенные закономерности объединяют даже наиболее далекие друг от друга аспекты одной культуры, словно подтверждая фразу Марселя Пруста о том, что все существующее одновременно есть кажущееся, эволюция математики весьма схожа с процессами, которые происходили в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и литературе. Не напрасно девиз Кантора «суть математики — в ее свободе» содержал отсылку к идее, приверженцами которой являются художники, скульпторы и композиторы.
Бесконечности, ее укротителю Кантору и, разумеется, обстоятельствам, сопутствующим этой истории, посвящены последние страницы этой книги.
Ядовитая змея в гнезде
Бесконечность можно сравнить со змеиным гнездом: лишь по прошествии нескольких тысяч лет, пережив несколько болезненных укусов, человек осмелился опустить в это гнездо руку. Бесконечность — продукт логической структуры нашего мозга. Эта структура обладает способностью создавать понятия путем отрицания уже известных. На основе того, что воспринимают наши органы чувств, естественным образом возникает понятие конца, границы, финала, то есть конечного, имеющего предел.
К понятию бесконечного мы приходим через отрицание конечного, а не на основе чувств или ощущений. Парадоксально, что хотя бесконечность является продуктом логической структуры нашего разума, она обнаруживает некоторую несовместимость с логикой, точнее со здравым смыслом, который часто путают с логикой. Здравый смысл неизбежно находится под влиянием информации, поступающей от органов чувств, а эта информация обязательно тем или иным способом отражает понятие конечного или ограниченного. Таким образом, бесконечность едва ли имеет отношение к здравому смыслу, и неудивительно, что она сильно пугала греков, для которых логика и здравый смысл были основой культурной революции.
История об Ахиллесе и черепахе, логическая головоломка Зенона Элейского о делимости и движении, столь же глубоко укоренилась в массовом сознании, что и теорема Пифагора, «Дон Кихот» или Девятая симфония Бетховена. В своем парадоксе Зенон тайком использовал бесконечность. Отзвуки бесконечности слышны и в пифагорейском кризисе, причиной которого стало открытие иррациональных чисел: так, нельзя было представить в виде дроби, и чтобы точно выразить значение этого числа, требовалось записать бесконечно много знаков.
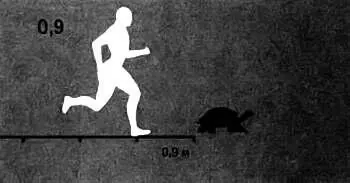
История об Ахиллесеи черепахе отражает представление древнегреческого философа Зенона Элейскогоо бесконечности. На иллюстрации изображен кадр из фильма Такеши Китанос одноименным названием.
Однако бесконечность была продуктом логики, и появилась она благодаря возможности определять новые понятия через отрицание уже известных. Более того, бесконечность была приятной на вид: некоторые математические объекты очевидно плохо уживались с понятиями конечного и ограниченного. Это и числа, которых настолько много, что им нет конца (это подтвердит любой), и прямые линии, которые всегда можно мысленно продолжать бесконечно.
Учитывая контекст, сопровождающий бесконечность, в котором абсурдное и, как следствие, скандальное и полемичное смешалось с разумным, неопровержимым, пусть и едва заметным, греки разделили бесконечность на две части: первая, потенциальная бесконечность, была приемлемой, вторая, актуальная бесконечность — отвратительной и ненавистной. Непреходящий аристотелевский «здравый смысл» стал тем ножом, которым чудовище было рассечено надвое. Отрицать существование бесконечных процессов невозможно (так, мы можем последовательно делить отрезок пополам бесконечное число раз, а последовательность чисел бесконечно велика), и Аристотель в книге III «Физики» описал природу потенциальной бесконечности так: «много невозможного получается, если вообще отрицать существование бесконечного», таким образом, «о бесконечном можно говорить в возможности», то есть «бесконечное получается либо прибавлением, либо отнятием». Бесконечность сама по себе, как нечто завершенное, по Аристотелю была запретной: «Невозможно, чтобы бесконечность существовала в действительности как нечто сущее либо как субстанция и первоначало. […] величина не может быть бесконечной актуально, об этом уже сказано, но она может быть беспредельно делимой». По Аристотелю, отрезок нельзя рассматривать как бесконечное множество точек, выстроенных в линию, однако допускается деление отрезка пополам неограниченное число раз. Однако использование актуальной бесконечности противоречило и Евклиду, который включил в «Начала» такую аксиому: «Целое больше, чем каждая из его частей».
Читать дальше