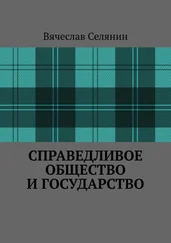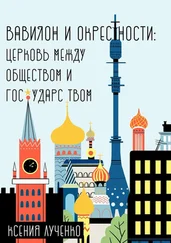Правда, разумеется, и в том, что поскольку результаты научных исследований воспроизводимы, вам не надо прислушиваться к суждению кого бы то ни было. Действенное открытие останется таковым невзирая на мнения подавляющего большинства ученых. Но картина сложнее, чем представляется. Исследователи обычно не повторяют эксперименты своих коллег. Они или поверят в то, что данные верны и что все работает именно так, как утверждают их коллеги, или отвергнут все предположения. Успешная гипотеза — это та, которую находят правдивой большинство ученых, а не та, которую проверили и нашли ее верной почти все из них. Фактически, как только теория принята, невозможности подвергнуть ее проверке уже недостаточно, чтобы ее отвергнуть. Как утверждает венгерский ученый и философ Майкл Поланый, если вы не смогли повторить хорошо известный эксперимент, вашей первоначальной реакцией будет отнюдь не сомнение в достоверности "модели". Вы усомнитесь (вполне, оправданно) в собственных знаниях. Так лучше для науки, ибо в противном случае исследователи постоянно проверяли бы результаты друг друга, вместо того чтобы стремиться к новым вершинам. В любом случае даже при проверке данных коллеги-ученые вынуждены опираться на целый ряд предположений, которые лично никогда не проверяли. Историк науки Стив Шапин писал: "Я открыл ДНК животного на основе уверенности в тождественность доставленных мне образцов ткани, в скорость центрифуги, в точность термометрических показателей, в количественный и качественный состав различных растворителей, в правила арифметики".
Конечно, ученые могут повторять эксперименты и на самом деле повторяют. И научные фальсификации раскрываются. Однако же суть не в том, что все истины относительны. Из факта, что знания ученого зависят от сведений, полученных от других, можно сделать два вывода. Во-первых, качественная наука требует определенной степени доверия среди ученых, которые, будучи соперниками, сотрудничают, обмениваясь правдивыми данными. Во-вторых, еще важнее, наука зависит не только от постоянно пополняющихся коллективных знаний, но и от веры в коллективный разум научного сообщества, способный отделить зерна от плевел, т.е. отличить достоверные гипотезы от ненадежных.
К сожалению, картина того, как научное сообщество устанавливает истину, идеализирована; на самом деле в ней есть некоторый изъян. Суть его в том, что большинство научных работ остаются незамеченными. Согласно результатам многочисленных исследований, большинство научных трудов почти никто не читает, в то время как малое их число становятся общеизвестными. Труды знаменитых ученых широко цитируются в отличие от сочинений их малоизвестных коллег. Когда в работе участвуют известные ученые, в случае ее успешного завершения они получают большую долю признания. Точно так же, если двое ученых (или две группы ученых) делают одно и то же открытие, именно самым известным приписывается честь такого открытия. Мертон назвал это "эффектом Матфея", благодаря строкам из Евангелия: "Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет" [25]. Богатые богатеют, бедные нищают.
"Эффект Матфея" можно частично рассматривать как эвристический прием, способ, с помощью которого ученые могут просеивать поток каждодневной информации. И поскольку в науке много усилий расходуется понапрасну (т.е. ученые зачастую выдвигают аналогичные гипотезы или проводят сходные эксперименты), "эффект Матфея" обеспечивает внимание работам, которые могли бы оставаться незамеченными. Но даже при этом сила имени поразительна. Например, генетик Ричард Левонтин поведал историю публикации двух работ, написанных им в соавторстве с биохимиком Джоном Хабби. Отчеты о работах были опубликованы один за другим в научном журнале в 1966 году. В одной работе имя биохимика Хабби значилось первым. Во второй первым из авторов упоминался генетик Левонтин. Никаких очевидных причин, чтобы люди больше заинтересовались одной из работ, не было. И все же работу, в которой имя Левонтина стояло первым, цитировали на 50% чаще, чем вторую. Единственным объяснением, как полагает Левонтин, было то, что на тот период он был более известен, чем Хабби. Когда имя Левонтина появилось первым, ученые сочли, что работа в большей степени принадлежит ему, а значит, более ценна.
Проблема, разумеется, в том, что благоговение перед известным именем предполагает пренебрежение к именам не столь знаменитым. Физик Луис Альварес выразил это следующим образом: "В физике нет демократии. Невозможно утверждать, что какой-нибудь второстепенный ученый имеет такое же право на собственное мнение, как Ферми". Хотя такой подход помогает не распылять внимание (вы не в состоянии выслушать или прочесть всех подряд и вынуждены прислушиваться только к лучшим), он довольно сомнителен. Опасность состоит в том, что важная работа будет пропущена из-за того, что ее автор не обладает соответствующим "брендовым" именем. Классический пример — Грегор Мендель, работы которого по вопросам наследования признаков игнорировались в том числе и потому, что он был неизвестным монахом. В итоге он просто отказался от публикации результатов работ.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
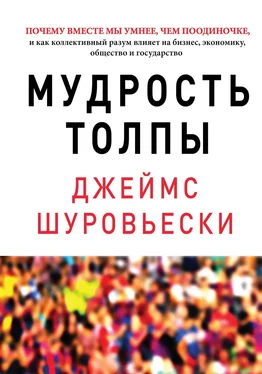

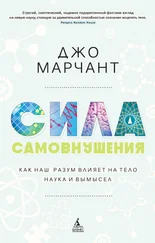

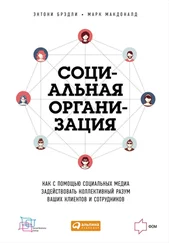
![Джо Аберкромби - Мудрость толпы [litres]](/books/431915/dzho-aberkrombi-mudrost-tolpy-91-litres-thumb.webp)