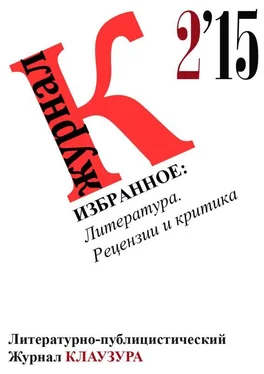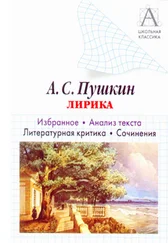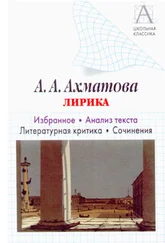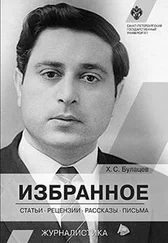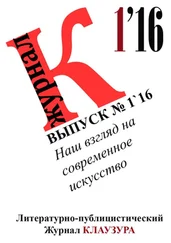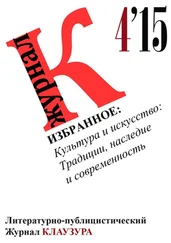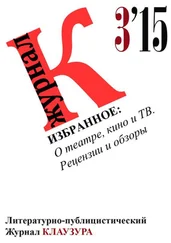1 ...6 7 8 10 11 12 ...17 Идея романа берёт свой исток в тайне рода, как почти все хорошие романы. Как-то Иличевский узнал, что его прадед, покинув жену и дочь, прибыл в порт Сан-Франциско на судне Seyo Maru и растворился в просторах США. В свою очередь, Сан-Франциско становится домом, чистилищем, площадкой экспериментов для героя романа. Сначала ведь надо выдернуть себя из алкоголизма, на пределе воли. Надо научиться у старого китайца «премудрости, охраняющей силу духа и ума». Потом, на пределе мысли, воскресить всех, без исключения, прадедов! – вот лозунг основателя новой науки. Назовём её топологией воскрешающих пространств инвариантной наследственности души, искусством восстановления ДНК предков. Но что такое математик – тополог Максим без города, без ландшафта золотого Запада, без самого красивого в мире моста, без обретённого друга Барни, – бывшего наркомана, смышлёного неврастеника, помешанного на казачестве, масонах и кино, на гипнозе, фокусах и НЛП, с шальными от таланта глазами. Повторяется история «Перса», где геолог Илья не может обойтись без дружбы невероятного Хашема, считающего себя реинкарнацией Хлебникова. Они там ищут, ни много ни мало, разгадку тайны происхождения жизни. Всегда есть этот пейзаж, этот город и этот друг – вот основа топологии, структуры любого романа Иличевского. Можно назвать писателя идеалистом. Не только потому, что стиль его идеально сложен, скроен для любителей непонятного, а герои слишком идеальны и сложны. На каждой странице есть идеи, но нет абстрактной вымороченности, есть упругий сюжет, но нет никакой линейности, есть предельная цветистость метафорики, но нет ничего лишнего. Этот роман похож на диск «Это мама» с нежной, но предельно суровой лирикой группы «Аукцыон».
В результате примиряешься с излишним, совсем нереалистичным богатством личностей героев, их невиданным потенциалом. А какой хороший писатель не стремиться описать уберменша, сверхчеловека, председателя земного шара? К тому же Иличевский пытается наблюдать мыслью наравне с глазами, видеть саму мысль так, как виден вон – тот камень. Чем мы видим мысль? Самой высокой и прозрачной мыслью. В каждом тексте есть вершина, идеал, – вплоть до попытки понять устройство Вселенной.
В «Математике» есть вставной сценарий фильма, написанный забывшим математику героем, про легендарных альпинистов братьев Абалаковых. Это чтение внутри чтения создаёт особую оптику понимания через контрастное сравнение судьбы, характеров разных поколений покорителей вершин. В «Персе» перевоплотилось время Хлебникова, теперь Максим и Барни, тандем «Математика», повторяют восхождение братьев Абалаковых на неприступный Хан – Тенгри в Тянь – Шане. К покорению чего на самом деле стремятся герои повествования и где сходятся водоразделы мысли?
Итак, Максим Покровский, гениальный математик тридцати шести лет, прибывает в Пекин на чествование самого себя, лауреата главной математической премии Филдса. Как тут не вспомнить Перельмана. Но герой Иличевского вовсе не отказывается от премии и денег, он отказывается от всего остального, от науки, жены, дочери, мира, самого себя. Так на него подействовало видение огромного скорбящего женского лика, увиденного на склоне тибетской горы, при перелёте к Пекину. К тому же он пьёт, он запойный бомж – забулдыга, так что на самом деле его лишает дома и последних математических мыслей древнегреческая красавица, полнобёдрая широкоглазая грация – жена, у которой «случайно вынутая из генной библиотеки последовательность кода отмотала в фенотипе назад три тысячелетия». Здесь и завязка романа, ведь герой начинает свою битву за счастье человеческого рода именно с обдумывания путей и судьбы этого самого генетического кода, повелителя фенотипа и самой смерти. После отклеивания от привычно непрерывной математической работы мысли, после грандиозного запоя и потери семьи, Максим вдруг обнаружил в себе новый всепоглощающий интерес – воскресить всех умерших людей.
Конечно, как суперматематик, он думал об этой жгучей проблеме совсем не так, как его предшественник в разработке этой идеи, реальный Николай Фёдоров, пламенный философ воскресения как общего дела. «Как ни глубоки причины смертности, – говорит Федоров, – смертность не изначальна, она не представляет безусловной необходимости: слепая сила, в зависимости от которой находится разумное существо, сама может быть управляема разумом». Но как? Федоров, прежде всего, защищает саму идею «имманентного воскрешения»: после искупительного подвига Спасителя этот путь не только открыт перед нами, но он есть наш долг – «заповедь нам, Божественное веление». Федоров ставит даже вопрос: «как понять, что за воскресением Христа не последовало воскресение всех?» и видит причину этого в том, что христиане склонились к чисто трансцендентному пониманию воскресения, то есть без активного соучастия людей.
Читать дальше