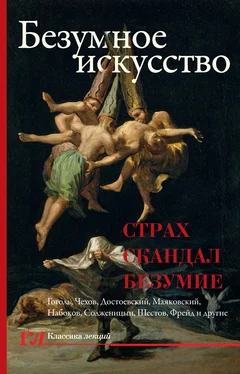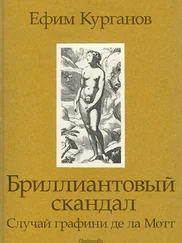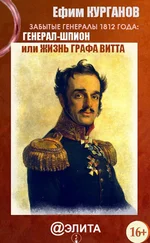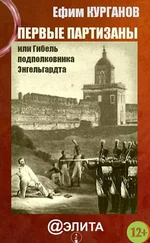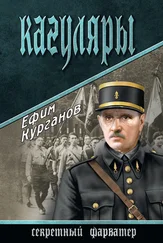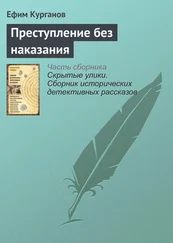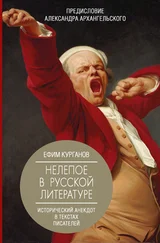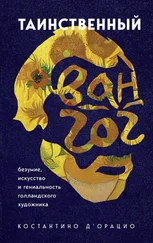То же, подземное происхождение имеет и большинство гоголевских чудовищ, во главе с «земляным человеком» Вием. Они то выходят из-под земли, сотрясая землю, то увлекают людей к ее недрам, маня и мороча их скрытыми там сокровищами. Именно земля служит у Гоголя связующей первоосновой всего – той сферой, той субстанцией, которая наделена повышенной проводимостью, в которой сливается, сращивается то, что в надземной сфере противопоставлено, разграничено, различено.
В «Старосветских помещиках» фантастической причиной всех бедствий оказался роман серенькой кошечки Пульхерии Ивановны с дикими лесными котами. Серенькая кошечка принадлежала домашнему миру поместья, дикие коты – чужому, внешнему, лесному миру. Между ними не должно было быть связи, иначе нарушилась бы целостность и замкнутость мира усадьбы. Но связь была установлена. Важно взглянуть, каким образом. Оказывается, что дикие коты «подрываются иногда подземным ходом под самые амбары» и что они «долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкою Пульхерии Ивановны и наконец подманили ее» [3, т. 2, с. 29]. Гоголю понадобился именно подземный ход, чтобы рассказать, как возникла связь между лесным и домашним миром, как через надежный частокол проникла смерть. Точно такая же ситуация повторяется в «Тарасе Бульбе»: неприступную границу между польским и казацким миром тоже нарушает подземный ход, которым татарка ведет Андрия из казацкого стана в осажденный город, где ждет его красавица-полячка. Кошачий роман травестирует историю Андрия и полячки, страшное и смешное опять-таки оказываются двойниками. Неизменно серьезным остается одно: связующая сила земли, в недрах которой границы, проведенные в надземном мире, оказываются недействительными. То же подтверждается в «Вие»: черту магического круга, отделявшего Хому от чудовищ и спасавшего его, нарушает, губя его, земляной человек Вий.
Земля морочит людей: поедешь на Канев – попадешь в Шумск, повернешь к Киеву – попадешь в Галич, «город еще далее от Киева, чем Шумск». Земля таит опасность, она ненадежна: могут опрокинуться «и Карпат, и Семиградская, и Турецкая земля» [3, т. 1, с. 277, 278]. Нет гарантий, что земля удержит вас на своей поверхности: сквозь нее можно провалиться чуть ли не в самое пекло.
Иными словами, земля полна губительных сил – но они же есть силы природные, участвующие в общей жизни мира и со своей стороны устрояющие космос. И поэтому их нельзя ни презреть, ни миновать; они все равно заявят о себе, постоянно вторгаясь в надземную жизнь.
Важнейшее скрыто в земле и через землю связано. Так было уже в «Вечерах…» Загадочная цепь событий «Страшной мести» объяснена, когда раскрывается земля и становится видно, «как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца, <���…> как лежащий под землею мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю…» [3, т. 1, с. 282]. Здесь, в глубине земли, кроется причина событий. И лишь заглянув в эту неизмеримую глубину, в этот бездонный провал земли, можно восстановить в истинном виде страшную цепь происходящего.
Но если прошлое скрыто в земле, то в нее же уходит и перспектива будущего. В «Театральном разъезде» автор пьесы в финальном своем монологе воображает, как «протекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, как дым унеслось все, что было», а творение драматурга живет, и люди рукоплещут «тому, которого уже пятьсот лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости?» [3, т. 1, с. 170].
Отзывается ли душа, слышат ли кости? – таков вопрос, обращенный автором к собственному будущему, которое с гоголевской силой воображения представлено во всей его подземной конкретике.
Когда Андрей Белый присматривался к подобным темам у Гоголя, наиболее значимым здесь казался ему мотив мертвеца, мертвого предка, с которым родовой связью скован живой. Но хтоническая тема у Гоголя, в последнее время вновь обратившая на себя внимание исследователей (см.: [1], [4]), как кажется, имеет и совсем другой разворот. Она свидетельствует о тяготении Гоголя к глубокой архаике, и одним из ключевых признаков архаики становится подземное расторжение границ, подземная слиянность всего со всем. Ведь хтонике неведома надземная субординация форм и различий, на архаическом уровне легко соединяется несоединимое. А перспектива хтонического и архаического, как только что было показано, раскрывается у Гоголя как в сторону прошлого, так и в сторону будущего. Она повсеместна. И именно в ней различенное, разрозненное, противопоставленное утрачивает свою разделенность. Слиянность страха и смеха – лишь одно из проявлений этой закономерности. Достаточно вспомнить сюжет «Вия», чтобы обнаружить такую же слиянность прекрасного и безобразного, мертвого и живого, дневного и потустороннего.
Читать дальше