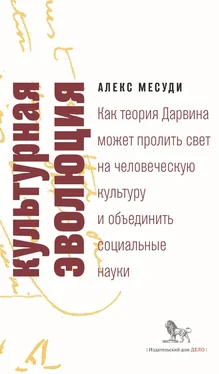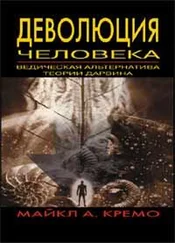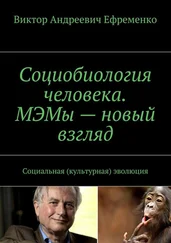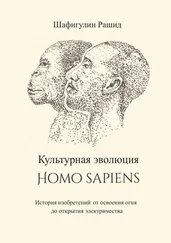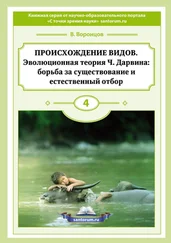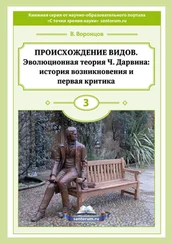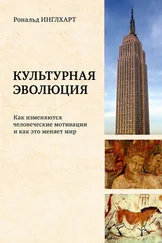В главах 4 и 5 рассмотрена культурная макроэволюция, то есть крупномасштабные, длительные тренды в культуре, выявленные на материале антропологии, археологии, истории и лингвистики. Конечно, представители этих дисциплин уже давно занимаются описанием и объяснением масштабных закономерностей в развитии культуры, причем без привлечения теории культурной эволюции. Однако их объяснения, как правило, основаны на качественных, а не количественных методах. Мы увидим, что культурные эволюционисты пользуются строгими количественными методами, созданными специально для выявления и объяснения закономерностей в биологической эволюции – филогенетическим анализом или моделями нейтральной эволюции (дрейфа). Эти методы позволяют исследовать паттерны культурной макроэволюции точнее, чем традиционные, не-эволюционные модели.
Главы 6 и 7 посвящены двум методам изучения культурной микроэволюции: лабораторным экспериментам и полевым этнографическим исследованиям. С помощью экспериментов культурная эволюция воссоздается в контролируемых лабораторных условиях. Этот метод имеет много преимуществ перед обычным наблюдением – например, историческим. Мы можем изменять переменные, чтобы выявить причины культурных явлений, можем «перезапускать» историю несколько раз, чтобы понять, не являются ли найденные паттерны результатом простой случайности, и можем собирать чистые и полные данные – то, что невозможно сделать, просто наблюдая за культурным процессом. Этнографические полевые исследования дополняют эксперименты – развитие культуры здесь изучается в небольших сообществах людей. Цель – ответить, например, на такие вопросы: у кого мы больше учимся – у родителей или у сверстников, и как каждый из этих путей передачи информации влияет на внутри- и межгрупповое культурное разнообразие?
Глава 8 содержит обзор недавних попыток смоделировать экономические изменения как эволюционный процесс. Объяснения исторических изменений не слишком удаются традиционной экономической теории: вместо этого она изучает оптимальные состояния экономических систем в отдельные моменты времени. Но такой подход плохо приспособлен для исследования экономик, постоянно подверженных переменам, – например, в ответ на резкие технологические прорывы (скажем, в телекоммуникациях или компьютерной технике). Экономисты начали создавать эволюционную теорию экономических систем, в которой базовым считается именно изменение, а не стазис. Другие исследователи утверждают, что эволюционные культурные процессы – а конкретнее, процесс культурного группового отбора – могут объяснить некоторые озадачивающие открытия: например, тот факт, что люди намного более склонны к кооперации, чем если бы они действовали исключительно ради увеличения собственной выгоды, как это предполагает традиционная, не-эволюционная экономическая теория.
В главе 9 поднимается вопрос о том, есть ли культура у других видов животных, кроме человека. Ответ во многом зависит от нашего определения «культуры». Однако очевидно, что неожиданно много видов обладают по крайней мере некоторыми важными чертами человеческой культуры – например, способностью учиться у других или поддерживать стабильные различия в поведении внутри группы, которые можно назвать культурными «традициями». Но, по всей видимости, только люди обладают кумулятивной культурой, в которой изменения накапливаются из поколения в поколение. Почему кумулятивная культурная эволюция присуща лишь людям – пока что загадка, но это направление исследований, возможно, позволит пролить свет на происхождение и основания человеческой культуры.
Задача последней главы – обосновать мысль о том, что будущее за «эволюционным синтезом» в социальных науках. Несмотря на все великолепие «Происхождения видов», эволюционная биология сформировалась как последовательная и успешная дисциплина лишь вследствие «эволюционного синтеза» 1930–1940-х годов. До этого биология состояла из нескольких обособленных дисциплин, составленных экспериментаторами, теоретиками, полевыми естествоиспытателями, палеонтологами и т. д. Каждая дисциплина была основана на собственных теоретических положениях, часто конфликтовавших с теориями других дисциплин. В ходе синтеза представители каждого из направлений пришли к согласию насчет основных положений, объединив таким образом биологию в рамках единой теории дарвинизма. Это стало возможным, поскольку ученые выяснили, что закономерности биологической макроэволюции (адаптивная радиация или периоды развития и стазиса в палеонтологической летописи) можно объяснить с помощью микроэволюционных процессов, изучаемых экспериментаторами и математиками – процессами вроде естественного отбора, полового отбора и дрейфа. В главе 10 я утверждаю, что социальные науки сейчас находятся в таком же раздробленном состоянии, как и биологические науки до 1930-х годов. Однако если эволюция культуры действительно напоминает эволюцию природы, то похожий «эволюционный синтез» возможен и в социальных науках. Иными словами, масштабные тренды или модели в культурной эволюции, изучающиеся археологами, историками, лингвистами, социологами и антропологами, можно будет объяснить через микроэволюционные культурные процессы, которыми занимаются психологи и другие исследователи поведения. Мы можем наблюдать появление объединенной науки о культуре, преодолевающей принятые границы социальных дисциплин.
Читать дальше