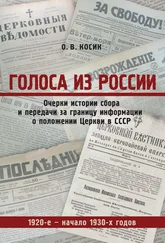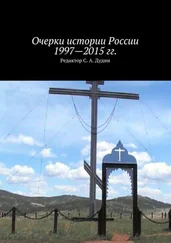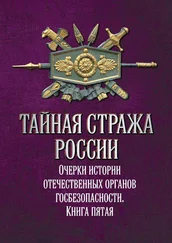Метафорически, как можно видеть уже по вышеприведенным примерам, слово «крокодил» могло относиться в древнерусских текстах либо к характеристике персонажей, отличающихся свирепостью и непобедимостью (так — в «Похвале Роману Мстиславичу Галицкому» из Ипатьевской летописи), либо к неким не слишком определенным, но оттого не менее устрашающим силам зла, к языческому и антихристианскому миру. Стремясь доказать существование культа ящера на Руси, Рыбаков цитирует, помимо вышеприведенных примеров, «Слово об идолах» Григория Богослова: в рукописных дополнениях к этому тексту есть смутное свидетельство о языческом поклонении реке и живущему в ней зверю: «О в реку богыню нарицает и зверь живущь в ней, яако бога нарицая требу творить» [784]. Осуждение язычников, поклоняющихся животным — реальным или фантастическим, — в истории европейской культуры может считаться устойчивым топосом; но значит ли это, что в каждом упоминании о таком поклонении нужно видеть реальное свидетельство. Символическое в средневековых текстах сплошь и рядом неотличимо от «реалистического». Инвективные упоминания о свирепых чудовищах — змеях, драконах и, наконец, «крокодилах» — в этих случаях не представляют исключения. О рецепции и буквализации таких, казалось бы, вполне абстрактных образов можно судить уже по изложению событий крещения Руси в «Повести временных лет» Лаврентьевской летописи (датируемой 1377 годом). Драматическое описание уничтожения князем Владимиром языческих идолов и насильного крещения киевлян в Днепре сопровождается упоминанием о дьяволе, сокрушенно жалующемся на утрату своей былой власти: «Наутрия же изиде Володимир с попы царицыны, и с Корсуньскими на Днепр, и снидеся бещисла людии, влезоша в воду и стаяху овы до шеи, а друзии до персии <���…> и бяше си ведети радость на небеси и на зем ли, толико душ спасаемых, а дьявол стеня глаголеше, увы мне яко отсюда прогоним есмь, сде бо мнях жилище имети яко сде не суть ученья апостольска, ни суть ведуще Бога, но веселяхося о службе их, еже служаху мне, и се побежен есмь от невеглас, а не от апостол ни от мученик, не имам уже царствовати в странах сих» [785]. Насколько «реален» упоминаемый в данном случае дьявол? И каким его представляли читатели и слушатели сообщаемого в летописи рассказа? В 1460-е годы историю крещения Руси по ее изложению в «Повести временных лет» пересказывает польский историограф Ян Длугош (1415–1480) в «Истории Польши» ( Historia Polonica ) [786]. В этом исключительно важном для западноевропейской историографической традиции сочинении Длугоша (послужившем источником со чинений о России последующих влиятельных историков — М. Меховского (Меховиты), М. Стрыйковского, М. Вельского, — которые впоследствии, в свою очередь, станут авторитетным источником цитирования для русских историографов) рассказ о крещении «невегласов» в Днепре и стенании дьявола изложен почти в буквальной близости к русскому источнику, но содержит ряд замечательных деталей, позволяющих судить о характере редакторской работы польского интеллектуала.
Минимальные изменения, внесенные Длугошем в пересказ летописного текста, касаются упоминания о том, что дьявол, жалующийся на утрату своего могущества над русскими нехристями, называет своим победителем не «невегласа» князя Владимира, но некую женщину ( una femina ). Возможно, что этой женщиной следует считать бабку Владимира — Ольгу, положившую в глазах Длугоша начало спасительной «европеизации» Руси [787]. Для нас интересно, однако, то, что образ дьявола в латиноязычном описании Длугоша становится образом дракона: « Audita autem est vox et eiulatus draconis in aere, querentis se ex possessione Ruthenorum diuturna non ab Apostolis aut Martyribus, sed ab una femina eiectum esse » («И слышен тогда был в воздухе глас и стенание дракона, печалящегося о том, что в долговечной власти над русскими он свержен не апостолами и мучениками, но одной женщиной») [788]. Рационализуя сказанное Длугошем, мы вслед за академиком Рыбаковым также могли бы сказать, что речь в данном случае идет о драконообразном чудовище, ящере или крокодиле, поклонение которому предшествовало установлению христианского культа. Образ дракона в изображении польского хрониста столь же символичен, как и образ дьявола в изображении русского летописца, — оба они релевантны представлению о силах, враждебных христианскому миропорядку, и оба соответствуют узнаваемой и традиционной для христианской традиции персонификации. Представление о христианине-змееборце (восходящее в своих мифологических истоках к змееборцам античной мифологии — Персею и Гераклу), воплощенное в иконографическом образе Георгия Победоносца, тиражируется в эпоху Средневековья в целом цикле легенд о героях-победителях драконов [789]. Об одной из таких легенд — подвиге Зигфрида-Сигурда [790]— Владимир Соловьев позже напишет стихотворение («Дракон», 1900), которое можно счесть теологически корректным комментарием к смыслу «драконоборческих» сюжетов в христианской культуре:
Читать дальше