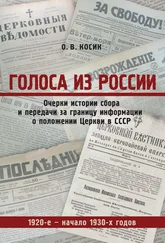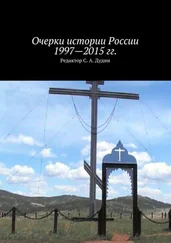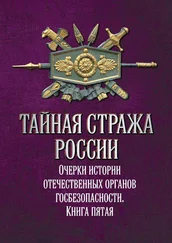Простонародный, общенародный, ничей
Пореформенная эпоха 1850–1860-х годов определяет новое отношение интеллектуалов к крестьянству, окрашенное прогрессистской идеей гражданского единения различных сословий империи. Понятие «разночинец» оказывается в этом смысле программным в отношении идеи всесословного единства. «Простонародное» становится востребовано публицистикой, а затем и литературой. Критики требуют от писателей аутентичности, соответствующей предмету описания: так, П. В. Анненков в рецензии на роман Д. В. Григоровича «Рыбаки» (1852), с особым сочувствием оценивая его «простонародный характер», отмечал только тот его недостаток, что язык романа — «это язык не подслушанный, а сочиненный. <���…> Фраза <���…> по конструкции и виду совершенно простонародна; но в ней слышится рука автора и даже процесс ее составления» [658]. Но в чем критерий искомой аутентичности?
В конце 1840-х годов жизнестроительные образцы национального патриотизма «обытовляются» славянофилами, декларировавшими самим своим обликом патриотическое пристрастие к бороде, мурмолкам и армякам. Вопрос о допустимости и уместности «русской» одежды в аристократическом обществе становится проблемой идеологической репрезентации. Поводов к патриотическому негодованию у славянофилов много: С. Т. Аксакова возмущает появление жены Закревского на маскараде в русском платье, впрочем, как надеется он в письме к сыну Ивану Сергеевичу: «ругательство <���…> над русским платьем произвело на общество самое благоприятное действие, и <���…> последствия его будут полезны» [659]. Славянофильские «Московские ведомости» также спешат заметить, что на балу у графа А. Н. Панина «не было ни одного русского платья <���…>. Общество, надевая для маскарада костюмы чуждых народов, не захотело клеймить народнаго русского платья маскарадным характером. Тут было темное прекрасное чувство, которое не допустило наше общество поступить иначе, и если оно наденет русскую одежду, то уж, верно, не для маскарада» [660]. Славянофильский пошив приживается, однако, с трудом. Е. П. Ростопчина приводит в своем «Доме сумасшедших» (1858) расхожий анекдот о А. И. Кошелеве, квазирусская одежда которого ввела в заблуждение некоего мужика:
Долго он, отличья ради,
Театральный армячок
Надевал, но шедший сзади
Молвил русский мужичок:
«Эва, немец!..» [661].
Тот же анекдот рассказывался о других славянофилах, особен но часто — о Константине Аксакове, выделявшемся даже на фоне своих соратников страстью к зипунам и поддевкам. Литература популяризует «простонародность» в жанре «физиологического» очерка и «этнографического» рассказа. В автобиографическом романе А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов» (1869) одна из героинь, Мари, уведомляет главного героя — писателя Вихрова, что «повесть его из крестьянского быта, за которую его когда-то сослали, теперь напечаталась и производит страшный фурор, и что даже в самых модных салонах, где и по-русски почти говорить не умеют, читаются его сказания про мужиков и баб, и отовсюду слышатся восклицания: " c'est charmant! Comme c'est vrai! Comme c'est poetique! " "Ты себе представить не можешь, — заключала Мари, — как изменилось общественное мнение: над солдатчиной и шагистикой смеются, о мужиках русских выражаются почти с благоговением"» [662]. Сатирически описываемая Писемским мода на «сказания про мужиков и баб» определит пафос научных изысканий в направлении, которое позднее будет названо «фольклористикой» и «этнографией». Особенностью этих исследований в России стало не лишенное парадоксальности смешение понятия «простонародье» с ключевым для фольклористики и этнографии понятием «народ». Если Полевой, Белинский, Сахаров настаивали на обособлении их друг от друга, то в работах второй половины XIX века «народность» оказывается как никогда ранее близка к «простонародью» [663].
Смена фокусировки и пропагандистской лексики не меняет, вместе с тем, главного. Вслед за «народностью», сделавшейся инструментом пропагандистской апофатики, последовали и «народ» и «простонародье» — они оказываются столь же неопределенными, ускользающими понятиями. Знаменитая декларация Ф. И. Тютчева: «Умом Россию не понять <���…> в Россию можно только верить» (1866) потому, вероятно, и станет в ретроспективе русской общественной мысли (а лучше сказать — не мысли, но страсти) чем-то вроде пароля поздних почвенников и славянофилов, поскольку афористически сформулирует то, к чему обязывает уваровская формула — не истолкования, но веры.
Читать дальше