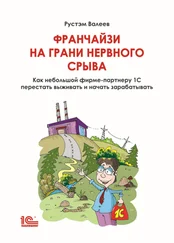Итак, лингвистическая работа в органах власти- и судах идет постоянно. Очевидно, впрочем, что, пытаясь запретить те или иные слова, власть или компании решают отнюдь не лингвистические, а совершенно конкретные политические или экономические вопросы. Но ведь и несчастная пицца пострадала по политическим мотивам. Оживление интереса к языку со стороны власти случайностью быть не может. В частности, за всеми призывами к защите русского языка скрывается простое желание регулировать это плохо контролируемое явление. Если вдуматься в этот призыв (что как-то не принято делать), то неизбежно возникнет вопрос: “Кто и от кого должен защищать русский язык?” Ну, кто будет защищать, очевидно, это, конечно, власть. А вот от кого? Ведь это не американцы или итальянцы (не забывайте о пицце) протаскивают в нашу речь свои слова, это мы сами. Тем более если речь идет о жаргоне или брани. То есть защищать русский язык надо от нас, его носителей. На мой взгляд, многих сторонников защиты русского языка это должно было бы по крайней мере насторожить.
В начале книги я упомянул об одном своем “нежелании”, связанном с языком. Сейчас это можно сформулировать яснее. Мне очень не хочется, чтобы по поводу языка издавались какие-то законы и постановления, принимались судебные решения и меня и мой родной язык таким образом регулировали бы или, что еще хуже, мой язык от меня таким образом защищали. Как и любой носитель языка, я имею полное право считать себя его хозяином, хотя и не единоличным, конечно. Да и вообще, язык, как и природа, не имеет злой воли, а вот про власть этого же с уверенностью сказать нельзя
Поэтому будьте бдительны, правка языка продолжается. Бойтесь правки языка.
Краткий курс новояза [53] Глава впервые включена в состав книги.
Политический дискурс не то, чем кажется
Политический дискурс – одна из популярных в обществе тем, к которой лингвисты относятся с подозрением. На первый взгляд, это вполне респектабельная проблематика, связанная с языком власти и потому не только интересная, но и актуальная, имеющая прикладной характер, что, по сути, предполагает определенные финансовые перспективы: исследовательские гранты и т. п.
Однако не все так просто. Во-первых, никто толком не понимает, что это такое. Область не компактна, а, напротив, чрезвычайно аморфна. Это означает, что легко расплываться по теме, но трудно сосредоточиться и сказать что-либо конкретное. Во-вторых, кажется, что разговор идет больше о политике, а не о языке, а значит, это не наука, а ее имитация. Первое и второе приводят к тому, что в этой области много псевдонаучных спекуляций и мало результатов, а за это никто денег не платит. В-третьих, здесь все ангажировано, субъективно и прагматически ориентировано. Вот, например, скажешь, что Жириновский – хороший оратор, значит, ты за Жириновского, значит, ты сам такой, ну и так далее. Иначе говоря, это еще и минное поле для научных репутаций.
С последним ничего не поделаешь, с этим надо смириться: умение говорить и добиваться своих целей никак не связано с человеческими и с политическими убеждениями. Многие кровавые диктаторы были великолепными риторами, умели зажигать аудиторию и манипулировать ею, и их коммуникативные стратегии и приемы надо изучать как образцы ораторского искусства. Что же касается научности, то если мы четко очертим границы политического дискурса, то добьемся своего. Разговор станет более научным, но, скорее всего, менее интересным. Как тут не вспомнить французского лингвиста Патрика Серьо, который изучал выступления Брежнева, в том числе формальными методами. Результаты получились строгие и с научной точки зрения вполне значимые, но никакой широкой общественной дискуссии не спровоцировали.
В общем, все упирается в то, что следует и что нам интересно называть политическим дискурсом. Политический дискурс – это стихия речи, множество устных и письменных текстов, связанных с политикой. Но нас интересует не только дискурс, но и особый язык, с помощью которого этот дискурс порождается. В частности, особый интерес представляет лексика этого языка: отдельные слова, словосочетания и даже фразы, выражающие специфические смыслы.
Вот, например: “суверенная демократия”. Безусловно, это прием из области политического дискурса. Считается, что это словосочетание придумал В. Сурков, и это типичный пример того, как власть с помощью языка пытается манипулировать народом. Правда, в данном конкретном случае – неудачно, но ведь и это тоже любопытно. То есть любопытно, почему власть не достигает в этой ситуации успеха.
Читать дальше
![Максим Кронгауз Русский язык на грани нервного срыва [litres] обложка книги](/books/436506/maksim-krongauz-russkij-yazyk-na-grani-nervnogo-sry-cover.webp)
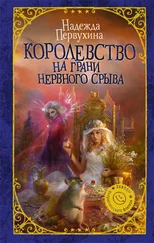
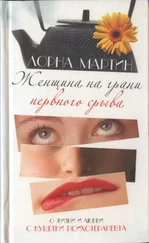
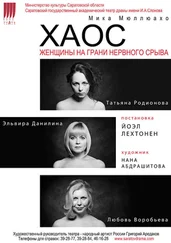
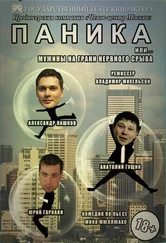
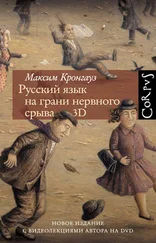
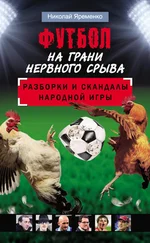
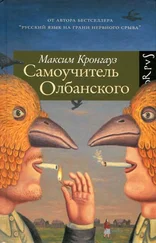
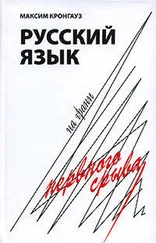
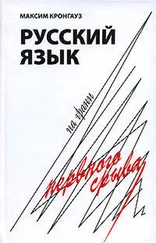
![Бернадетт Пэрис - Нервный срыв [litres]](/books/398952/bernadett-peris-nervnyj-sryv-litres-thumb.webp)