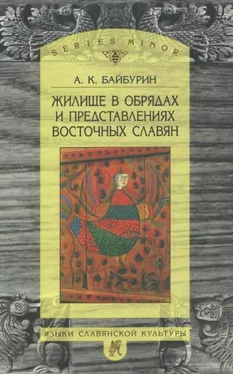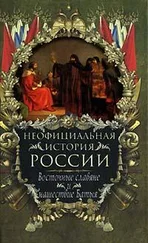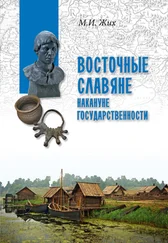Столь высокой моделирующей способностью могут обладать только те объекты, которым приписаны сущностные свойства мира, и прежде всего способность обозначать его центр, каковой были наделены, например, город, храм, алтарь. В этот же ряд можно включить и дом. Причем если в храме сознательно воплощался образ вселенной, то в жилище мир повторялся скорее всего неосознанно, что придает этому «удвоению» еще большую ценность. Структура дома повторяет структуру мира и в том смысле, что он сам имеет свой центр, периферию и т. д. С другой стороны, постоянно возрастающее число археологических и этнографических данных позволяет говорить о структурном подобии жилища и поселения, особенно в связи с круглой формой последних, с центром, в котором мог поддерживаться ритуальный огонь и «который, вероятно, использовался для совершения ритуалов общего характера и сходок взрослого мужского населения» [15] Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н . Славянские языковые… системы, с. 170. Из новейшей литературы о соотношении структуры жилища и поселения см., напр.: Массон В. М. Экономика и социальный строй древних обществ. Л., 1976 (особенно гл. 7); см. также многочисленные работы представителей так называемой Settlement Archeology (Б. Тригера, К. Фланнери, Г. Р. Уилли и др.). Интерпретацию изоморфизма дома и поселения см.: Lévi-Strauss С . Do Dual Organisation Exist? — In: Structural Anthropology. Harmondsworth, 1972, p. 132–163.
.
Судя по фольклорным источникам, дом оказал существенное влияние на формирование оппозиции внутренний — внешний. «Поскольку дом образует самостоятельное замкнутое пространство (объем) в пространстве, он начинает восприниматься сам как внутренность пространства. На лексическом уровне это отражается, в частности, в том, что оппозиция внутри/снаружи заменяется оппозицией дома/снаружи. В свою очередь „снаружи“ расшифровывается как лес, поле, вода, гора, места скопления народа (базар, площадь), т. е. как лексемы, имеющие особую семантическую функцию в организации фольклорного пространства. Оппозиция: внутренний / внешний, принадлежащий дому / принадлежащий внешнему миру может быть интерпретирована как оппозиция: принадлежащий культуре / не принадлежащий культуре („неочеловеченный“)» [16] Цивьян Т. В . Дом в фольклорной модели мира, с. 74.
.
Другой важной содержательной доминантой дома является его связь с социальной организацией. В этом направлении основное внимание, как правило, уделяется различного рода отражениям структуры семьи в организации домашнего пространства. Уже в самых ранних археологических памятниках прослеживаются следы выделения в жилище мужской и женской части, места хозяина, а иногда и возрастных групп [17] Сводку таких данных см.: Labat P . L’habitation et la Famille dans diverses civilisations. — In: Famille et habitation. Paris, 1959, p. 37–41; Talo ja perke. Helsinki, 1980.
. Подобное разделение пространства носит условный характер и коррелирует с принципами организации сакрального пространства (место в центре обладает наибольшей сакральной ценностью; место у выхода — наименьшей; левая сторона считается женской, а правая — мужской, но возможны и инверсии) [18] Тенденция расположения женщин в левой части помещения, по мнению специалистов, может быть следствием генетического предрасположения. См.: Иванов Вяч. Вс . Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978, с. 85.
. При этом иерархия мест и половозрастная иерархия совпадают.
Меньшее внимание уделяется, если можно так выразиться, обратной связи: влиянию искусственной среды обитания на структурирование коллектива. Судя по некоторым данным, оно может оказаться даже более существенным, чем это сейчас представляется. Во всяком случае такие важнейшие характеристики социума, как степень и характер дифференцированности и интегрированности и соответственно проблема таксономических единиц не только самым интимным образом связаны с жилищем, но и во многом им диктуются. В то же время при изучении истории социальной организации важно, по-видимому, принимать в расчет и то обстоятельство, что самое слово «дом» (*domos/*domus) в ряде индоевропейских языков первоначально, видимо, означало не жилое строение, а общественную организацию, семью [19] По мнению Э. Бенвениста, индоевр. *demo ‘возводить’, ‘строить’ не связано с *domos/*domus, которое имело значение социальной микроструктуры ( Benveniste É . Le vocabulaire des institutions indo-européennes. T. 1. Paris, 1969, p. 293).
.
Наконец, несколько слов о собственно информационной характеристике дома. С этой точки зрения дом выступал как один из основных источников и трансляторов информации. Он являлся своего рода книгой и вместе с тем активно содействовал формированию представлений об эталонных связях в системе мир — человек, причем речь идет не только о визуальном образе жилища, который сейчас пытается расшифровать археолог или этнограф. Информация передавалась и по другим каналам, как дублировавшим, так и дополнявшим друг друга (ср. рассказы о «виденных» домовых или о возможности их увидеть). Вербальным путем передавалась своеобразная «домашняя» мифология. Существенная часть обязательного корпуса текстов усваивалась и воспроизводилась исключительно во время так называемых «домашних» работ. С домашним пространством было связано выполнение ряда периодических и окказиональных ритуалов, включавших наиболее ценные в ритуальном отношении тексты. Технологическим кодом передавалась не менее важная часть жизненно необходимых знаний, навыков, опыта, как во время выполнения домашних работ, связанных с приготовлением пищи, изготовлением орудий труда, утвари и т. п., так и, наконец, во время строительства жилища.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу