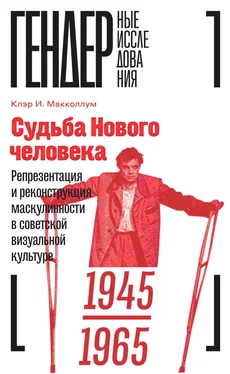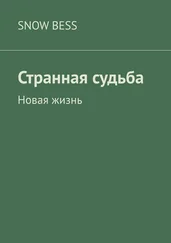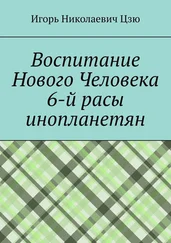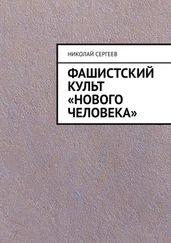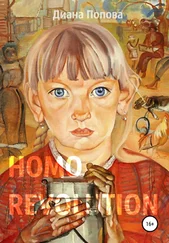После частичной реформы Семейного кодекса и объявления о расширении школ-интернатов на XXI съезде КПСС на страницах советской прессы разгорелись дискуссии о разной роли родителей и государства в воспитании детей и о коммунистической семье.
Противоположные точки зрения, предложенные в работах академика Станислава Струмилина и социолога Анатолия Харчева в начале 1960‐х годов, демонстрировали, что общего мнения по поводу идеального сочетания частного и публичного в семейной жизни по-прежнему нет. В неоднозначной статье Струмилина «Рабочий быт и коммунизм», опубликованной в № 7 «Нового мира» за 1960 год, присутствовал отзвук многих прежних идеальных представлений революционных времен о превосходстве коммунального воспитания детей и пороках буржуазного института брака:
Преимущества общественного воспитания так велики и осязательны, что ими окупятся любые затраты общества… Каждый советский гражданин, уже выходя из родильного дома, получит направление в детские ясли, а из них — в детский сад с круглосуточным содержанием <���…> И прежняя семья все суживается до <���…> семейной пары. А когда и такие узкие семьи признают уже нецелесообразным расходовать массу труда на ведение у себя, всего на двоих, самостоятельного домашнего хозяйства, то тем самым и семья вообще <���…> растворится в составе будущей бытовой коммуны [526].
Напротив, Харчев превозносил уникальные достоинства отношений родителей и детей — этот взгляд, похоже, совпадал и с преобладавшим общественным мнением, и, что немаловажно, с позицией советского руководства. Как пояснял Хрущев в своем докладе, «при коммунизме семья станет сильнее… семейные отношения станут чистыми и длительными» [527].
На 1961 год пришелся апофеоз заботы государства о родителях и распространения новой морали: на XXII съезде партии был принят «Моральный кодекс строителя коммунизма». Личные и общественные обязанности в этом документе были взаимосвязаны, а в основе его лежали правильное общественное поведение и долг перед коллективом; кроме того, утверждалась необходимость «взаимного уважения в семье и заботы о воспитании детей» [528]. Таким образом, было признано, что роль в воспитании детей играют оба родителя, но их функции отличаются и определенно не взаимозаменяемы. Матери были ответственны за уход и вскармливание в первые годы жизни ребенка и в дальнейшем за аспекты, связанные с социализацией, такие как этикет, тогда как отцам в первоначальный период жизни младенца не отводилось особой роли, однако они отвечали за дисциплину, а также интеллектуальное и культурное развитие, как только ребенок достигал подходящего возраста. В одном из описаний этой идеальной семейной структуры отец усердно работает и вовлечен в социальную жизнь, но при этом все равно находит время для участия в домашних делах и обучения сына столярному делу. Тем самым создавалось гармоничное сочетание личных и общественных обязанностей отца, которые в итоге преследовали одну и ту же цель — укрепление советского коллектива.
Впрочем, несмотря на изобилие советов неравнодушным матерям, когда дело доходило до определения обязанностей и зон ответственности хорошего отца, акцент делался на том, что он не должен быть трудоголиком, алкоголиком или злоупотреблять физической силой — напротив, отцовство конструировалось в более позитивных терминах [529].
В основном до 1940‐х годов советский мужчина лишь изредка появлялся в сценах семейной жизни, и этот образ часто использовался в антиалкогольных кампаниях. Эта традиция уходит корнями в 1920‐е годы. Взаимосвязь между злоупотреблением алкоголем и семьей в российском контексте никоим образом не была советским изобретением, как можно убедиться по картине Владимира Маковского «Не пущу!» (1892), на которой изображены отчаявшаяся женщина и ее ребенок, пытающиеся преградить своему кормильцу вход в кабак.
Репродукция этой картины была опубликована в «Огоньке» в конце 1953 года в сопровождении цитаты из великого художественного критика XIX века Владимира Стасова, назвавшего эту сцену «страшной и грозной трагедией»[530]. Аналогичным образом на плакатах, выходивших в 1920‐х годах, семья и в особенности дети выступали в качестве жертв мужского пьянства — шла ли речь о том, что на выпивку спускались заработки, о подверженности алкоголю малолетних детей или об угрозе злоупотребления физической силой [531]. Этот мотив по-прежнему находил выражение и в 1950‐х годах, примерами чему служат плакат Ираклия Тоидзе «Пьяный отец — горе семьи» (1956), который в том же году был опубликован в журнале для родителей «Семья и школа» [532], и (не столь явно) картина Сергея Григорьева «Вернулся» (1953–1954), где изображено возвращение алкоголика в родной дом [533]. Но, в отличие от воспроизводившейся связи между плохими отцами и выпивкой, образы, обращавшиеся к другим типам дурного поведения, таким как физическое насилие или слишком частое отсутствие дома, стали появляться только в 1960‐х годах, хотя даже тогда они ограничивались карикатурами в «Крокодиле» и присутствовали в небольшом количестве [534].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу