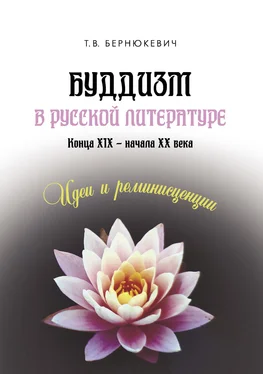Духовные устремления привели Толстого к мысли о том, что для того, чтобы человек мог жить, ему необходимо «или не видеть бесконечного, или иметь такое объяснение смысла жизни, при котором конечное приравнивалось бы бесконечному» [44] Там же. С. 441.
. И тогда писатель обратился к поискам вечного, поискам Бога [45] См.: Там же. С. 449.
.
Бога Толстой решил найти в той вере, которая есть у народа. Он признает жизнь людей своего круга подобием жизни, жизнью паразитов, пытается найти тот смысл, который присутствует в жизни «простого трудового народа». А поскольку простой трудовой народ был русский и смысл, придаваемый им жизни, был в вере в бога и спасении своей души – то к этому смыслу и стремится приобщиться Толстой. И при этом обращении ему кажется, что смысл этот ясен и близок его сердцу. Но возникают новые сомнения, которые ради желания веры, ради того, чтобы удержаться в жизни, Толстой вначале пытался скрыть, но которые скрыть оказалось невозможно, в силу просвещенческого стремления Толстого к рациональному анализу и обоснованию и смысла жизни, и смысла веры. Оказалось, что ряд неотъемлемых черт наблюдаемой Толстым церковной жизни и православной жизни народа невозможно объяснить, апеллируя к данной разумности и целесообразности. А без подобного подтверждения и рационального обоснования вера теряет для Толстого свое антропологическое значение (за что эта концепция человека подверглась жесткой критике со стороны Н. Бердяева и многих других русских религиозных философов).
По поводу попыток приобщения Толстого к народной вере Бердяев пишет, что в своем «страстном искании Бога, смысла жизни и правды жизни» Толстой был изначально поражен глубоким противоречием, которое его «обессилило». Свои искания Толстой начал с «обличения неправды и бессмыслицы цивилизованной жизни», а «правду и смысл» он пытался найти у «простого трудового народа, у мужика»… Но православная же вера в сознании писателя сталкивается с его разумом, и то, что кажется ему в этой вере неразумным, вызывает у Толстого протест и негодование. Противоречие заключается в том, что «разум свой, которым он судит православие, Толстой взял целиком из ненавистной ему цивилизации, из европейского рационализма, от Спинозы, Вольтера, Канта и др.». Бердяев замечает в работе «Л. Толстой», что в своем мировоззрении Толстой остался «просветителем» и именно это противоречие «между самоутверждением просветительного разума, между рационалистическим сознанием цивилизации и исканием смысла, веры, Бога у простого народа, далекого от цивилизации, раздирает “Исповедь” Толстого» [46]. Как пишет русский религиозный философ, в этом противоречии «изобличается неправда религиозного народничества»: «Нельзя верить, как верит народ, можно верить лишь в то, во что верит народ, и верить не потому, что в это верит» [47].
Окончательно же разрушило стремление держаться православия и даже «заставило отречься от возможности общения с православием» негативное отношение православной церкви к другим церквям и раскольникам. Писатель приходит к выводу о человеческой, а не божественной сущности деятельности церкви: «И я все понял. Я ищу веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей. И, исполняя эти человеческие дела, они и исполняют их по-человечески» [48] Там же. С. 457.
.
Заканчивается «Исповедь» сном, который выразил в «сжатом виде» все то, что пережил и описал художник. Что же снилось автору? «Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня.
И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся» [49] Толстой Л. Н. Исповедь. С. 460–461.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу