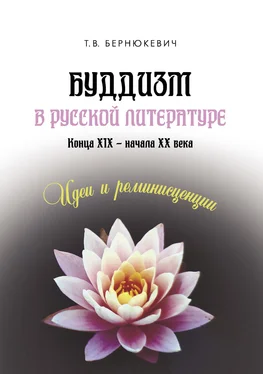1 ...8 9 10 12 13 14 ...67 Для того чтобы жить истинной жизнью, необходима любовь, но настоящая любовь у Толстого «есть предпочтение других существ себе – своей животной личности», смысл любви в ее жертвенности: «Любовь – только тогда любовь, когда она есть жертва собой. Только когда человек отдает другому не только свое время, свои силы, но когда он тратит свое тело для любимого предмета, отдает ему свою жизнь – только это мы признаем все любовью и только в такой любви мы находим блага, награду любви» [64]. По этому поводу М. Л. Клюзова замечает: «На фоне аксиоматического для мыслителя положения о том, что настоящее и действительное я человека есть его особенное отношение к миру, становится очевидно, что только Любовь может придать этому отношению содержательное единство и универсальный характер, раскрывающий себя как “свойство больше или меньше любить одно и не любить другое” и этически конкретизируемый в “степени, любви к добру”» [65]. Нельзя не увидеть, что понятие любви у Толстого во многом соотносимо с понятием сострадания и спасения в буддизме. «Спасение существ, таким образом, есть самоспасение истинно-сущего. Будда, спасая существа, спасает себя, существа, спасая себя, спасают Будду; совершенство каждого есть совершенство всех. И спасение каждого есть частичное спасение истинно-сущего», – писал О. О. Розенберг [66].
Кроме уже отмеченных выше, причинами отнесения Бердяевым учения Толстого к ветхозаветной или буддийской религии являются особенности отношения Толстого к Любви, к личности Бога и Спасителя. По мнению Бердяева, «уж скорее Толстой буддист, чем христианин. Буддизм есть религия самоспасения, как и религия Толстого. Буддизм не знает личности Бога, личности Спасителя и личности спасаемого. Буддизм есть религия сострадания, а не любви» [67].
В работе «О жизни» Толстой останавливается на анализе таких экзистенциальных составляющих человеческой жизни, как страдание и страх смерти. Страх смерти, по его мнению, связан с осознанием конечности жизни: «Страх смерти происходит оттого, что люди принимают за жизнь одну маленькую, их же ложным представлением ограниченную часть ее. Эта ограниченная часть всего лишь видимая жизнь, являющаяся частью бесконечного движения жизни» [68] Толстой Л. Н. О жизни. С. 494.
.
Рассмотрение темы смерти в творчестве Толстого занимает значительное место в проникновенной работе И. Бунина «Освобождение Толстого». О Толстом Бунин пишет: «Он, “счастливый”, увидел в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в общеевропейской, в своей собственной домашней? Но все эти жизни только капли в море. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: невыносима всякая человеческая жизнь – “пока не найден смысл ее, спасение от смерти”» [69] Бунин И. А. Освобождение Толстого. С. 125.
.
Но смерть при понимании смысла истинной жизни – это освобождение и пробуждение от конечной, мучительной животной жизни. Бунин приводит отрывки из «Войны и мира», описывающие предсмертный сон Андрея Болконского: «“Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение”, вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.
С этого началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни…» <���курсив Бунина> [70] Там же.
.
Именно с точки зрения освобождения от жизни личной к жизни бесконечной воспринимает Бунин приводимый им в данной работе эпизод ранения князя Андрея: «“Как тихо! спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал”, – подумал князь Андрей, – “не так, как мы бежали, кричали и дрались, совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что я узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу.”» [71] Там же. С. 151.
Сближая идеи Толстого с буддизмом и буддийской философией, Бунин выделяет в качестве специфически близкой буддизму черты особую память Толстого, нашедшую яркое отражение в воспоминаниях Толстого о своем младенчестве и раннем детстве. Для определения причины этого свойства памяти великого писателя Бунин обращается к своим впечатлениям от поездок на Восток: «Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу