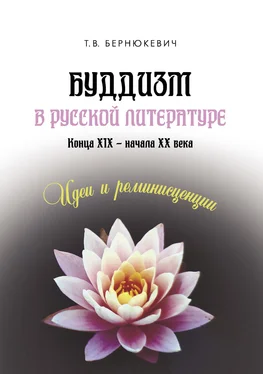Пространство преодолено. Но преодолено ли время? «Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше. Куда? – он сам не знал» [378].
Кто он, Истома? Не вечный ли пленник Майи, Времени? В одном из своих известных стихотворений Хлебников напишет:
Годы, люди и народы
Убегают навсегда.
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды – невод, рыбы – мы,
Боги – призраки у тьмы [379] Там же. С. 67.
.
Всегда сложно говорить о творчестве писателей и поэтов в ракурсе влияния на них определенных философских идей, мировоззренческих интенций. Все это: идеи, влияния концепций и теорий – переплавляется в одном – в творчестве. И уже там мы видим их преломления и отблески (иногда яркие, а иногда совсем чуть-чуть, лишь полутона и тени). Вопрос о роли буддизма в творчестве В. Хлебникова нельзя рассматривать вне контекста общего ориенталистского интереса русской литературы, вне историософских исканий русского декаданса и авангарда.
Сам поэт неслучайно называл себя и своих творческих единомышленников «будетлянами». Все творчество Хлебникова – прорыв преград времени и локальных пространств, где это время, а точнее, времена разворачиваются. Это полет в Будущее, где частное, единичное и конечное должно обратиться в единое и бесконечное. И тем самым будет «оправдана» история человечества, истоки которой поэт видел в Азии.
Буддийская месса в Париже И. Анненского: «Чтоб чистые в ней пили благодать…»
Удивительно, но творчество одного из основателей двух направлений в русской поэзии конца XIX – начала XX в. (символизма и акмеизма), поэта, в лирике которого звучат идеи античности и античной философии, талантливого исследователя, который, будучи студентом, изучал санскрит под руководством выдающегося буддолога И. П. Минаева – И. Анненского, почти совершенно обойдено вниманием философов.
Из всего обширного литературного наследия поэта мы обратимся к стихотворению, в котором, на наш взгляд, проявилась одна из ярких особенностей русской поэзии этого периода – внимание к инокультурному материалу для выражения концептуальнохудожественных идей в контексте мифопоэтической картины самого поэта. В частности, речь идет о стихотворении И. Ф. Анненского «Буддийская месса в Париже». Это стихотворение входит в «Трилистник толпы» из его сборника «Кипарисовый ларец» (1910). Впервые опубликовано оно было в журнале «Северная речь» в 1906 г., посвящено профессору кафедры классической филологии Петербургского университета, переводчику античных авторов Ф. Ф. Зелинскому (1859–1944).
В связи с сюжетом данного стихотворения, а точнее, с проблемой реальности-фантазийности описываемых в нем событий, в литературоведении обсуждается ряд дискуссионных вопросов. Первый вопрос: происходила ли в Музее восточных культур Э. Гиме буддийская служба?
Известная исследовательница творчества И. Ф. Анненского, автор многочисленных статей о нем и серьезного учебного пособия Г. В. Петрова в статье «И. Ф. Анненский – Ф. Фр. Зелинскому: стихотворение “Буддийская месса в Париже”» пишет о том, что «в стихотворении речь идет о “священнодействии”, которое исполняет “базальтовый монгол” для посетителей музея. Однако нигде нам не удалось найти подтверждения тому, что в музее Гиме когда-либо проходили (разыгрывались) подобного рода богослужения» [380].
А в примечаниях к статье указывает: «Интересно, что в издании: Полетаев Е., Пунин Н. Против цивилизации. Пб., 1918 – есть упоминание, что накануне Первой мировой войны в Париже и Лондоне проходили “буддийские мессы”, однако никакой другой более точной и подробной информации авторы не дают. Никаких других источников, указывающих на “буддийские мессы”, нам обнаружить не удалось. Действительно, видел Анненский какую-либо “буддийскую мессу” в Париже или это только плод его фантазии (что кажется нам более правдоподобным), однозначно сказать невозможно» [381] Там же.
. По ее мнению, описанные в стихотворении «воспоминания» – это «любимый прием» поэта, когда художественный образ «оживляется воспоминанием» и становится «объектом внутреннего созерцания» [382].
Иная точка зрения у А. А. Ковзуна, который достаточно подробно рассмотрел в статье «Несколько комментариев к “Буддистской мессе в Париже” И. Анненского» исторические реалии сюжета данного стихотворения И. Ф. Анненского [383] Ковзун А. А. Несколько комментариев к «Буддистской мессе в Париже» И. Анненского // «Слово – чистое веселье.»: Сб. статей в честь Александра Борисовича Пеньковского / отв. ред. А. М. Молдован. М.: Языки славянской культуры, 2009. (Studia philologica). С. 276–298.
. Так, к примеру, Ковзун пишет об истории проведения «буддийских богослужений»: «Первая буддийская церемония имела место 21 февраля 1891 г. в библиотеке музея Гиме, превращенной ради сего случая во временный буддийский храм. Богослужение вели два японских монаха-буддиста, члены секты Шинран, – Коицуми Риотаи (KoIdsumi-Tai, или Koizumi Ryotai) и Йошицура Хоген (Yochitsura Kogen, или Yochitsura Hogen). Моление происходило перед статуей будды Амиды и изображением Шинрана – святого, в XIII в. основавшего их секту» [384] Там же.
. Второе «буддийское богослужение имело место в музее Гиме 13 ноября 1893 г. Провел его настоятель японского монастыря Митанидзи (Mitani-dji) монах школы Шингон (Singon) Токи Хориу (Toki Horyu), прибывший в Париж осенью 1893 г. по пути на родину после участия в Конгрессе религий в Чикаго» [385]. И, наконец, третий буддийский обряд, тот, о котором шла речь в стихотворении, состоялся 27 июня 1898 г. в библиотеке музея Гиме: «Его провел известный Агван Доржиев (1854–1938), прибывший во Францию (и затем посетивший другие страны Европы) из Тибета в качестве дипломатического посланника Далай-ламы XIII» [386] Там же.
. А. А. Ковзун опирается на статью французского япониста А. Буссемара, посвященную истории этих богослужений [387].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу