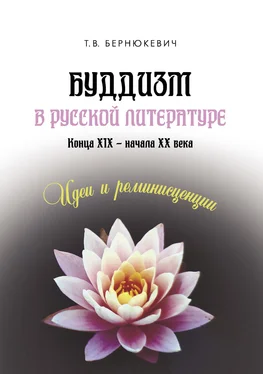Говоря о перипетиях биографии поэта, об обучении его в разных университетах и на разных отделения, следует заметить, что в 1909 г. Хлебников подает заявление о переводе его на факультет восточных языков в разряд санскритской словесности Санкт-Петербургского университета. К сожалению, в биографической и исследовательской литературе ничего не сказано о причинах такого желания поэта, который уже к тому времени учился на математическом (1903–1904 гг.) и естественном (1904–1905 гг.) отделениях физико-математического факультета Казанского университета, был студентом естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1908–1909 гг.). Правда, зачислен Хлебников был на I курс славяно-русского отделения историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета.
В творчестве Хлебникова наряду со «сверхпоэмами» и сверхповестями, поражающими своими эпическим размахом, преодолением времени и пространства, масштабностью исторических смещений, есть совершенно лирические миниатюры, в которых автор также переносится в другие пространства, но без шума и «будетляновской» напористости. Одна из таких миниатюр посвящена Тибету:
А я пойду к тебе, в Тибет.
Там я домик отыщу —
Крыша небом крытая,
Ветром стены загорожены,
В потолок зелень глядит,
На полу цветы зелёные.
Там я кости мои успокою [346].
Ряд исследователей отмечают особую значимость в творчестве Хлебникова идеи смерти и ее преодоления. Следует заметить, что хлебниковская танатологическая концепция часто связывается с идеями философа Н. Ф. Федорова [347]. С другой стороны, например, Дуганов пишет о всеобщей связи бытия через смерть в произведениях Хлебникова [348].
Феномен смерти у Хлебникова опять же есть один из мотивов открытия им «основного закона времени». Исследователи высказывали мнения по поводу источников «идеи победы над смертью».
Так, Н. Степанов пишет: «Мысль о победе над смертью постоянно занимала Хлебникова, но источник ее следует видеть не в мистически-религиозных учениях, которые Хлебникову были глубоко чужды, а в его натурфилософии, теории вечного превращения и преобразования материи» [349] Степанов Н. Л. Велимир Хлебников: жизнь и творчество. М.: Советский писатель, 1975. С. 196.
. В то же время Д. А. Пашкин считает, что «на самом деле “теория вечного превращения и преобразования материи” как нельзя лучше вписывается в эти (вполне, впрочем, у Степанова абстрактные) “мистически-религиозные учения”, которые, в свою очередь, вполне интересовали Будетлянина и вовсе не были ему чужды (вплоть до оккультных и магических)» [350].
Он приводит целый ряд примеров из произведений Хлебникова и исследовательских работ, обращая внимание на модель «множественности посмертных воплощений». Так, он указывает на «едва ли не самый известный пример такого рода» – а именно, отрывок из поэмы «Шествие осеней Пятигорска»: «Лишь золотые трупики веток / Мечутся дико и тянутся к людям: / “Не надо делений, не надо меток / Вы были нами, мы вами будем”» [351]. Другой яркий пример такого рода – это поэма «Медлум и Лейли», в которой традиционный фольклорный мотив (посмертное превращение в дерево или кусты роз) усложняется до космогонического мифа, который воплощает идею «победы над смертью». Д. А. Пашкин опирается на точку зрения известного исследователя восточных мотивов и идей в творчестве Хлебникова П. И. Тартаковского: «Медлум и Лейли трансформируются в звезды, минуя стадию физического исчезновения, смерти, на которую лишь слабо намекается, Хлебникову необходимо утвердить прежде всего идею бессмертия. Но бессмертия не просто любви, а более общих философских категорий; не случайно в поэме бессмертны не двое влюбленных, а их космические астральные ипостаси – звезды Запада и Востока, символизирующие все живое и сущее во вселенной, – разделенное, но в то же время единое в своей духовной мощи» [352]. Пашкин отмечает, что принцип «всеобщей связи бытия через смерть» постулируется и в комментариях к стихотворениям во втором томе нового Собрания сочинений Хлебникова, где справедливо указываются схожие тексты: «Когда умирают кони – дышат.» (1911), «Колесо рождений» (1919), «Перед войной» (1922), хотя при этом мистико-религиозный подтекст опускается, «уступая место научному дискурсу» [353]. Также рассмотрение идеи «смерти-возрождения» представлено в книге В. Кравца [354] См.: Кравец В. Разговор о Хлебникове. Киев: Проза, 1998.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу