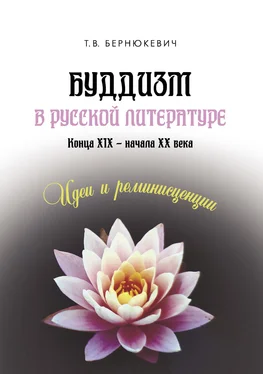Среди этой исторической калейдоскопичности и жизнь принца Гаутамы Сиддхартхи – Будды:
Здесь сын царя прославил нищету
И робок опустить на муравья пяту,
И ходит нищий в лопани [337] Хлебников В. Стихи, поэмы. С. 133.
.
Образ за образом, картина за картиной, пространство за пространством:
Вот степи, где курганы, как волны на волне,
В чешуйчатой броне – былые богдыханы
Умерших табунов.
Вот множество слонов
Свои вонзают бивни
Из диких валунов
Породы допотопной… [338] Там же.
Это прошлое Азии. Великое в своей широте и масштабности событий, стран, образов. Но прошлое.
Как ты стара! Пять тысяч лет.
Как складки гор твоих зазубрены! [339]
И сегодня уже Азия – это:
Страна костров и лобных мест.
И пыток Столетий пальцами
Народов развернула свиток [340].
Прошлое окончено. Сброшено. Настоящее еще наполнено всеобщей разобщенностью: стран и людей, мирового и личного. Но что впереди? В поэме есть совершено пронзительное обращение поэта к Азии. К Азии, которая вошла в жизнь Хлебникова с рождения. К Азии, которая являла собой источник вопросов о времени как пространстве преобразования истории и причинах событий этой столь разнообразной и драматичной истории. Седая Азия – в чем ее смысл и куда ведет ее путь? Куда «плывут чудовища событий»?
Этот драматичный вопрос с особой остротой звучит в поэме «Азы из Узы», в ее отрывке, который часто публиковался как самостоятельное стихотворение:
О, Азия! Себя тобою мучу.
Как девы брови я постигаю тучу,
Как шею нежного здоровья —
Твои ночные вечеровья. [341]
И вновь прошли бы в сердце чувства,
Вдруг зажигая в сердце бой,
И Махавиры, и Заратустры,
И Саваджи, объятого борьбой.
Умерших снов я стал бы современник,
Творя ответы и вопросы,
А ты бы грудой светлых денег
Мне на ноги рассыпала бы косы,
«Учитель, – ласково шепча, —
не правда ли, сегодня
Мы будем сообща
Искать путей свободней?» [342]
Известный исследователь творчества Хлебникова П. Тартаковский пишет: «Хлебников стремился передать свое ощущение философии истории, свой взгляд на пути развития мира; он пытался привести человечество к взаимопониманию и контакту, к осмыслению национальных различий как явления не только не противоречащего этому взаимодействию, но наоборот, обогащающего всех духовной силой и мудрость каждого» [343].
Идея единства с новой Азией и строительства нового мира четко выражена поэтом в его статье «Письмо двум японцам». Это ответ двум японцам по поводу их писем в газете «Кокумине-Симбун» (11 сентября 1916 г. – частично на русском языке), два из которых были перепечатаны в «Русском слове». В них было высказано предложение «соединиться с ними юношам русским». Сам Хлебников вполне разделяет эту идею и, более того, пишет, что «то же общее, о чем мы молчим, но чувствуем, есть то, что Азия есть не только северная земля, населенная многочленом народов, но и какой-то клочок письмен, на котором должно возникнуть слово Я. Может быть, оно еще не поставлено, тогда не должны ли общие судьбы, некоторым пером, написать очередное слово? Пусть над ним задумалась рука мирового писателя! Итак, вырвем в лесу сосну, обмакнем в чернильницу моря и напишем знак-знамя “я Азии”. У Азии своя воля. Если сосна сломится, возьмем Гауризанкар. Итак, возьмемся за руки, возьмем двух-трех индусов, даяков и подымемся из 1916 года, как кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространств, но в силу братства возрастов» [344].
Хлебников предложил провести первую встречу в Токио и на первом Азиатском съезде среди вопросов обсудить следующие: «Основание первого Высшего Учебна будетлян. Он состоит из нескольких (13) взятых внаймы (на 100 лет) у людей пространства владений, расположенных на берегу моря или среди гор у потухших вулканов в Сиаме, Сибири, Японии, Цейлоне, Мурмане, в пустынных горах, там, где трудно и не у кого приобретать, но легко изобретать»; «основать Азийский Ежедневник песен и изобретений. Это для того, чтобы ускорить наш полет стрижей будущего. Статьи печатаются на любых языках, по радиотелеграфу из всех концов»; «думать не о греческом, но о Азийском классицизме (Виджай, ронины, Масих-аль-Деджал)». Среди задач Азиатского союза и изобретение общего языка чисел, поэт предлагает: «Язык Чисел Венка Азийских юношей. Мы можем обозначить числом каждое действие, каждый образ и, заставляя показываться число на стекле светильника, говорить таким образом. Для составления такого словаря для всей Азии (образы и предания всей Азии) полезно личное общение членов Собора Отроков будущего. Особенно удобен язык чисел для радиотелеграмм. Числоречи. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах» [345] Там же.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу