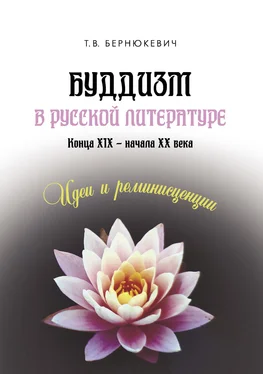Вопрос о буддийских, а если быть более правильными, вообще восточных мотивах в творчестве Хлебникова нельзя рассматривать вне проблемы исследований ориенталистских устремлений в русской литературе. Как отмечают Ю. М. Лощиц и В. Н. Турбин, решается эта проблема в основном в двух аспектах. Первый – это «вычленение материала, демонстрация, научное “коллекционирование” того, что было сказано русскими писателями о Востоке»; второй – «исследование влияния на русскую поэзию вольных или невольных “экспедиций” на Восток, которые приходилось совершать русским писателям» [308] Лощиц Ю. М, Турбин В. Н. Тема Востока в творчестве В. Хлебникова // Народы Азии и Африки. 1966. № 4. С. 147.
. По мнению исследователей, как раз необычность биографии Хлебникова «дает возможность очертить и новые аспекты проблемы» [309] Там же.
. Авторы отмечают, что на поэта оказывали влияние символистские концепции Востока, но в качестве более глубокой причины «пристрастного внимания к истории и культуре Азии» они называют «запрограммированность “обстоятельствами биографии” поэта», рождение его в краю, «до сих пор еще напоминающем пестрый Ноев ковчег языков и народностей» [310].
Одной из «восточных» тем творчества Хлебникова была тема европейско-азиатских и русско-азиатских отношений. «Азия влекла его как желанное дополнение к тому, что знаем о судьбе человека мы, европейцы, как школа, которую нам необходимо пройти», – пишут Ю. М. Лощиц и В. Н. Турбин [311] Там же. С. 148.
. При этом европоцентризм был просто органически чужд Хлебникову: «Хлебников просто перешагнул через него, вероятно, даже не заметив этого – так Гулливер перешагивал через дворцы и хижины лилипутов» [312] Там же. С. 149.
.
Соотносится с «русско-азиатской стихией» и культурная периферийность самих футуристов, которые «в известном смысле сами явились порождением мятежной русско-азиатской стихии» и предстали перед читателями и критикой как «инородцы», «табор кочевников» [313].
Сложность выявления буддийских аллюзий в творчестве Хлебникова связана с общей сложностью философско-культурологического анализа творчества авангардистов. В своей статье «Ранний русский авангард в контексте философской и художественной культуры рубежа веков» Е. Бобринская пишет, что произведения авангардного искусства «требуют определенных интерпретационных усилий, позволяющих в какой-то мере преодолеть их непроницаемость», а принципиальные аспекты эстетики авангарда нередко могут быть раскрыты и поняты только в соотнесении с «тем или иным контекстом или с целой вереницей контекстов» [314].
Одним из таких контекстов было воскрешение и преломление архетипических сюжетов, архаических пластов. Эти процессы часто не только придавали произведениям авангарда свойство «сакральной закрытости», но, по мнению исследовательницы, становились «источником активной ориентации искусства по отношению к социальному контексту», актуализировали «действенную природу искусства, уходящую корнями в архаическую магию или религиозные культы» [315] Там же. С. 5.
.
Авангардная «религиозность» имеет свои специфические черты, связанные с общими мировоззренческими особенностями начала XX в., а именно: с кризисом ортодоксальной религии и кризисом того, что принято считать европейской культурой. Это вызвало к жизни некоторые языческие и неоязыческие тенденции в религиозной жизни Европы и России, тягу к формированию «нового религиозного сознания», стремление к созданию неких синтетических учений, что отразилось и в художественных построениях русского авангарда, в «попытках (иногда в духе теософских учений) обретения своеобразной открытости религиозного опыта». Такая «открытость» способствовала тому, что среди источников мировоззренческих, и в том числе религиозных, элементов авангардного искусства мы находим «самый широкий и противоречивый спектр подобных источников от буддизма и гностицизма до архаических языческих культов и сектантской мистики» [316]. Однако выявить эти «строго очерченные источники» чрезвычайно сложно [317].
Особенностью мировоззренческо-религиозных устремлений представителей русского авангарда является спаянность двух тем, двух образов (этот синтез был одним из доминирующих в духовной истории России начала XX в.). Это – «революция и религия» [318] См.: Там же. С. 10.
.
Многие исследователи русского авангарда пишут о создании авангардистами особой историографии и формировании особой футурологической направленности их творчества, такая устремленность в будущее свойственна и русской философии того времени. Об утопизме как неизбывном соблазне отечественной мысли писал в свое время известный религиозный философ и богослов Г. В. Флоровский [319]. Бобринская считает, что одним из «теоретических источников» авангардизма европейского послужил проект идеального государства французского социалиста Сен-Симона, в котором высшая власть должна была принадлежать художникам, так как «люди воображения» способны не только предвидеть, но и создавать будущее, а потому именно им и следует идти в «авангарде человеческого общества» [320].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу