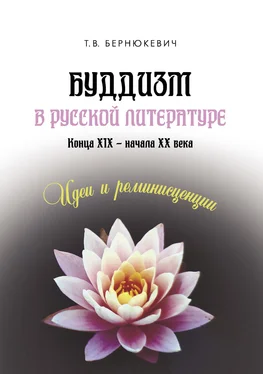Хан Сарымбет покидает свой дворец, оставляет на правлении ханством сына Майи и селится на берегу Кара-Куль около могилы своей возлюбленной. Там он перечитал «много мудрых книг, долго и много молился и тысячу раз передумал всю свою жизнь, полную легкомысленных радостей, суетных желаний и мыслей» [212].
На могиле Майи находят примирение два врага: хан Сарым-бет и хан Олой. Хан Олой по просьбе хана Сарымбета хоронит его рядом с Майей, и «на высоком берегу озера Кара-Куль красуется двойная могила хана Сарымбет с красавицей Майей. Издалека приходят люди, чтобы поклониться их праху: так любили они друг друга.». Однако это не спасло два рода от вечной вражды, иллюзия необходимой мести оказалась сильнее: «Ровно через сто лет племя Гунхой напало на Шибэ и разрушило город, как прежде был разрушен Гунхой: то сделал внук Олой-хана. Всё было истреблено, выжжено и разрушено» [213] Там же. С. 199.
. И хотя в финале легенды говорится о том, что «даже враги не тронули могилы Майи, а внук хана Олоя сам приехал посмотреть святое место и прослезился» [214], фраза о нападении племени Гунхоя на Шибэ невольно возвращает нас к кровавому началу легенды.
Любовь не спасает мир от вражды, разорения и смерти. «Покрывало майи» даже в любви и счастье скрывает беспрерывность человеческого горя и страданий. Не чувствовать это писатель, переживший столько тяжелых жизненных событий, не мог.
Буддийские мотивы в лирике и переводах К. Д. Бальмонта
Работ о восточных, в частности индийских, мотивах в творчестве К. Д. Бальмонта чрезвычайно мало. Это статья Г. М. Бонгарда-Левина «Свет мой, Индия, святыня» [215] Бонгард-Левин Г. М. Свет мой, Индия, святыня // Из «Русской мысли». СПб.: Алетейя, 2002. С. 44–61.
, обзорная статья о связи между длительным путешествием поэта по странам Африки, Австралии, Новой Зеландии, Цейлону, Индии и его творчеством П. В. Куприяновского, Н. А. Молчановой «Кругосветное путешествие К. Д. Бальмонта 1912 года и его поэтическое “эхо” в книге “Белый Зодчий”» [216], а также предисловие Г. М. Бонгарда-Левина к переизданию поэмы Ашвагхоши «Жизнь Будды» [217].
Из недавних исследований, где в том числе рассматривается тема буддийских идей в творчестве Бальмонта, можно назвать работы М. С. Уланова [218].
Как утверждает Бонгард-Левин, с письменными памятниками индийской культуры Бальмонт, вероятно, впервые познакомился в 1897 г., когда он читал лекции по русской литературе в Оксфорде. В архиве Оксфордского университета сохранились списки ученых, которые посещали лекции русского поэта, и среди них был Макс Мюллер (1823–1900). Это был выдающийся санскритолог, индолог, организатор всемирно известной серии «Священные книги Востока». Кроме того, в Англии Бальмонт начал увлекаться теософией. Так, он был знаком с книгой Е. Блаватской «Голос Молчания» («The Voice of the Silence»), в которой был широко использован индийский материал (Упанишады, «Бхагавадгита», буддийские тексты и т. д.). Как и многие писатели, художники и композиторы того времени (М. Волошин, И. Анненский, А. Скрябин), Бальмонт несколько лет был под влиянием этих идей. Например, в качестве эпиграфа к разделу «Мертвые корабли» сборника «Тишина. Лирические поэмы» (СПб., 1898), изданного после первого пребывания в Оксфорде, взяты строки из книги Блаватской.
«Майя» и другие стихотворения, в которых слышны мотивы индийских религий и философии Востока (как считает Бонгард-Левин, прежде всего Упанишад), вошли затем в сборник «Лирика мыслей и символика настроений. Книга раздумий» (СПб., 1899) [219] См.: Бонгард-Левин Г. М. Свет мой, Индия, святыня. С. 44–61.
. А уже в книге, опубликованной годом позже, – «Горящие здания. Лирика современной души» (М., 1900) – стихи на индийские сюжеты («Индийский мотив», «Индийский мудрец», «Паук») объединены в специальный цикл – «Индийские травы». В стихотворении «Майя» представлена картина «святого моления» «задумчивого йоги». Поэт описывает красоту и яркость бытия («Чампак, цветущий в столетие раз, Пряный, дышал между гор, на вершинах.»). Но молитва йога, чтение мантры вызывает «призраки» – олицетворение бренности и мучительности того, что порождается Майей:
Бешено мчатся и люди, и боги.
«Майя! О, Майя! Лучистый обман!
Жизнь для незнающих, призрак для йоги,
Майя – бездушный немой океан!»
Однако эта сущность «немого океана», «ужас мучительный», «сон бытия» скрыты от нас, как скрываются «виденья» «мага-заклинателя» [220].
Тема повторения «земного бытия», «круговорота», «тяжелого плена, всё новых перемен», в который ввергнуты не только «люди и герои», но и «царственные боги», звучит в стихотворении «Круговорот» [221]. Аналогии «бренного земного бытия» со сном, столь типичные для индийских религиозно-философских концепций, присутствуют практически во всех стихотворениях данного цикла:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу