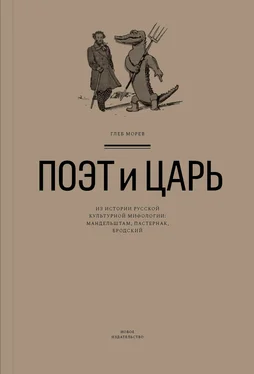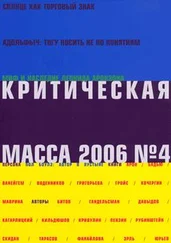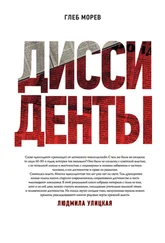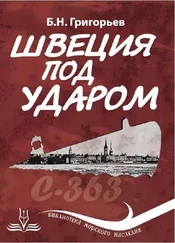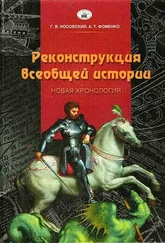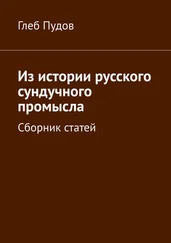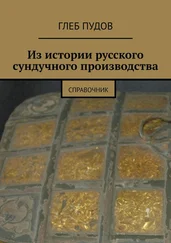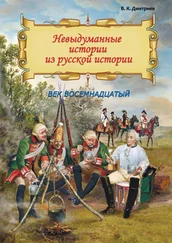См. чрезвычайно точную в характеристике сталинского взаимодействия с культурой публикацию А.Ю. Галушкина «Сталин читает Пастернака» и послесловие к ней Л.С. Флейшмана «Еще о Пастернаке и Сталине» (впервые: В кругу Живаго: Пастернаковский сборник. Stanford, 2000 [= Stanford Slavic Studies. Vol. 22]. С. 38–86).
Время ареста Пунина и Гумилева охарактеризовано Л.С. Флейшманом (со ссылкой на автобиографическое свидетельство Луи Фишера) как «момент наибольшей либерализации в стране» ( Флейшман Л. Борис Пастернак и литературное движение 1930-х годов. С. 376). Доступные современным историкам статистические данные подтверждают это впечатление: с 1934 года количество арестованных органами ОГПУ/НКВД неуклонно снижалось – с 205173 человек в 1934 году до 131268 в 1936-м (см.: Рогинский А., Жемкова Е. Между сочувствием и равнодушием – реабилитация жертв советских репрессий // Уроки истории. ХХ век [urokiistorii.ru]. 2017. 20 декабря). Более дифференцированные данные приводит О.В. Хлевнюк: «в первой половине 1934 г. было арестовано 128 тыс. человек, а во второй – 77 тыс. Резко уменьшилось количество арестов за „контрреволюционные преступления“ – с 283 тыс. в 1933 г. до 90 тыс. в 1934 г.» ( Хлевнюк О. Указ. соч. С. 229). Начавшаяся в Ленинграде после убийства Кирова репрессивная кампания воспринималась оптимистически настроенными современниками как несозвучная эпохе: «О массовых высылках из Ленинграда все знали, но считали это локальным и единичным мероприятием. <���…> В литературной среде до конца 1936 года обострения не замечалось и даже арест О. Мандельштама в мае 1934 года никого особенно не встревожил» ( Гладков А. Указ. соч. С. 15); ср. переданную Э.Г. Герштейн оценку близкого власти И.Э. Бабеля: «в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и уверял [сосланного С.Б.] Рудакова, что больше двух месяцев его пребывание в Воронеже не продлится» ( Герштейн Э . Указ. соч. С. 91). Характерно, что решение Сталина не могло служить, как уместно здесь выразиться, «охранной грамотой»: в изменившихся условиях и Мандельштам, и Пунин, и Л. Гумилев были вновь репрессированы. Особенность сталинской избирательности в вопросах репрессий была отмечена Р.А. Медведевым еще в конце 1960-х годов: «Показательно, что, просматривая эти списки [намеченных к аресту], Сталин иногда вычеркивал те или иные фамилии, вовсе не интересуясь, какие обвинения выдвинуты против данных лиц» ( Медведев Р . К суду истории: О Сталине и сталинизме. М., 2011. С. 359). Заметим, что поддающиеся лишь гипотетической реконструкции и целиком зависевшие не от данных о «виновности/невиновности», а от актуального политического контекста соображения Сталина могли вести как к смягчению, так и к ужесточению наказания конкретного человека. Ср. судьбу А.М. Маркевича, замнаркома земледелия, осужденного в 1933 году на 10 лет лагерей и в конце 1934-го почти освобожденного специальной комиссией Политбюро, убедившейся в незаконности методов следствия ОГПУ. Однако после убийства Кирова и изменения внутриполитической ситуации Сталин отказался от пересмотра дела Маркевича и наказания недобросовестных следователей ОГПУ/НКВД, приказав вернуть уже доставленного в Москву Маркевича в лагерь (см.: Викторов Б.А . Указ. соч. С. 138–140).
Иванов В.В . Почему Сталин убил Горького? С. 565.
О «пушкинских» параллелях в восприятии Сталина Мандельштамом см.: Гаспаров М.Л. О. Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. С. 144–145.
Венцлова Т. О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе // Новое литературное обозрение. 2011. № 112. С. 269. Далее цитаты из дневника Томаса Венцловы даются без ссылок по этому источнику.
Цит. по: Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников, 2006–2009. СПб., 2010. С. 247–249. В цитированном тексте восстановлена (по экземпляру из архива Катилюса, хранящемуся в Стэнфордском университете) сделанная при публикации купюра (ироническое именование Израиля «Жидостаном», свойственное, по свидетельству многочисленных мемуаристов, Бродскому).
В разговоре с Л.К. Чуковской 31 мая 1972 года он, не называя имени Евтушенко, прямо винил того в своем отъезде ( Чуковская Л. Из дневника. Воспоминания. М., 2014. С. 322). Эта же мысль косвенно (и уже с упоминанием Евтушенко) высказана в интервью Бродского еженедельнику Observer 25 октября 1981 года ( Бродский И . Большая книга интервью / Сост. В. Полухиной. М., 2000. С. 160).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу