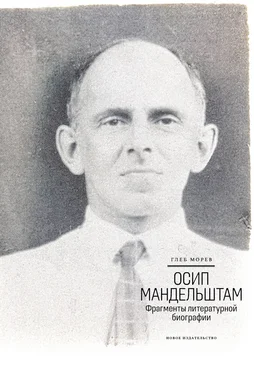Один из принципиальных пунктов расхождения Пастернака с советской действительностью в 1937 году оказывается напрямую связан с тематикой мандельштамовских «Стансов». Мы имеем в виду тему смертной казни. Она могла быть затронута Мандельштамом и Пастернаком при их последней встрече. 11 июня 1937 года Пастернак, как известно, отказался подписать писательское письмо с одобрением того самого смертного приговора Тухачевскому и другим военачальникам, чья публикация на страницах «Правды» отразилась в «Стансах» Мандельштама. «<���…> пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно», – вспоминал Пастернак свое настроение в июньские дни 1937 года в письме К.И. Чуковскому 12 марта 1942 года [588].
«Разговор со Ставским о казни» упоминает в биографической хронике Мандельштама, составленной в середине 1960-х годов, Н.Я. Мандельштам, относя его ко времени перед отъездом в санаторий в Саматиху (весна 1938 года) [589]. «У О.М. перед отъездом в Саматиху был разговор со Ставским. О.М. заявил, что сочувствует всему, но примириться с расстрелами не может», – дополняет свою хронику Н.Я. Мандельштам в отрывочных записях 1960-х годов [590]. Никаких дополнительных данных, позволяющих реконструировать содержание беседы Мандельштама и Ставского и уточнить ее дату, у нас нет. Однако, учитывая еще одно упоминание Н.Я. Мандельштам о смертной казни в контексте событий осени 1937 года (когда Мандельштам бывал в ССП и когда могла состояться его последняя встреча с Пастернаком), позволим себе высказать одно предположение.
В «Воспоминаниях» Н.Я. Мандельштам упоминается эпизод на станции Савелово, когда Мандельштамы «случайно достали газету и прочли, что смертная казнь отменяется, но сроки заключения увеличиваются до двадцати лет» [591]. Газетное сообщение произвело впечатление на Мандельштама. Речь, как указывают С.В. Василенко и П.М. Нерлер [592], идет о публикации «Известий» от 3 октября 1937 года с сообщением о принятом накануне постановлении ЦИК СССР об изменении уголовного законодательства: предлагалось дополнить существующие меры наказания за антигосударственные преступления (10 лет и расстрел) еще одной – 25 годами заключения, с целью «предоставления суду возможности избирать по этим преступлениям не только высшую меру наказания (расстрел), но и лишение свободы на более длительный срок» [593]. Нельзя исключить, что такая, выглядящая гуманной и неожиданная в обстановке террора мера, могла стать для Мандельштама одновременно одним из аргументов в споре с Пастернаком о «недооценке» Сталина и темой обсуждения со Ставским.
Свои новые тексты, включая написанные в Савелове, Мандельштам читает летом 1937 года приехавшей в гости из Воронежа Н.Е. Штемпель.
Полночи мы с Осипом Эмильевичем бродили по лесу вдоль берега Волги. Надежда Яковлевна с нами не пошла. Осип Эмильевич рассказывал мне, как они жили эти два месяца после отъезда из Воронежа, прочитал все новые стихи. <���…> Насколько я помню, это были небольшие (по количеству строк) стихи, лирические, любовные – и, конечно, прекрасные. Но одно из них резко отличалось от остальных. В нем шла речь о смертной казни, —
вспоминала она [594].
Стихотворение о смертной казни – единственная прочно запомнившаяся Штемпель деталь их встречи с Мандельштамом, обстоятельства которой в ее памяти менялись [595]. Упоминание об этом тексте как об утраченном заложило своего рода традицию в мандельштамоведении, наиболее ярко выраженную С.С. Аверинцевым:
Впечатления наши от савеловского эпилога были бы, очевидно, более радостными, если бы сохранилось написанное тогда же стихотворение против смертной казни, в котором поэт возвращался к одному из самых глубоких мотивов своей мысли и жизни, не сводимому у него к тривиальной «гуманности» [596].
Между тем, если вернуться к воспоминанию Н.Е. Штемпель, то становится ясно, что единственным, резко отличающимся от других лирических текстов, обращенных к Лиле Поповой и составляющих сегодня «савеловский цикл» в корпусе Мандельштама, стихотворением из прочитанных поэтом своей воронежской гостье, являются как раз «Стансы». Характеризуя это стихотворение, В.А. Швейцер справедливо замечает, что «в „Стансах” прежде всего вспоминается газетная страница с приговором» [597]. Именно эта уникальная своей острой конкретностью, связанной с атмосферой 1937 года, деталь последних мандельштамовских стихов, вероятно, и сохранилась в памяти Н.Е. Штемпель спустя много лет, понятным образом определив для нее тематику всего текста. Общий же смысл воспринятого единожды и на слух стихотворения оказался «амортизирован» инерционным представлением о Мандельштаме, находящим к тому же достаточно оснований в его «до-савеловском» наследии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу