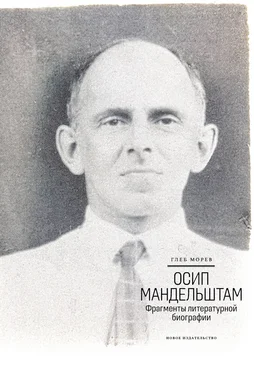<���…> как-то [Н.Я.] заявила, едва я вошла: «Когда встречусь с Оськой, дам ему в морду». «За что?» – возопила я. «За Сталина». Имелись в виду стихи, обращенные к Еликониде Поповой, ярой сталинистке, найденные Викой Швейцер в архиве. Об этом узнала накануне. Сердита была очень, как на живого [562].
Эту интерпретацию подтверждает и Л.Г. Сергеева: «Надежда Яковлевна не могла простить мужу не его увлечения красивой женщиной Лилей Поповой, а его подыгрывания „сталинистке умильного типа”» [563].
Из стихотворения понятно, что движение по «дороге к Сталину» требует от поэта «без укоризн» и изъятий принять реальность, включая казни, о которых сообщает «Правда». В контексте всегдашнего отвращения Мандельштама к любым видам террора (включая государственный), а также в свете явной противопоставленности такой установки автора пушкинской традиции, на которую ориентирует нас заглавие текста [564], пафос «Стансов» 1937 года выглядит особенно шокирующе. Думается, что именно идеологическая направленность последнего стихотворения Мандельштама способствовала тому, что, несмотря на всю историко-литературную сенсационность находки, текст почти пятнадцать лет после обнаружения не публиковался, будучи одинаково неудобным как для советской, так и для русской эмигрантской печати [565]. При его публикации в 1989 году в склонном к нарушению эстетико-политических конвенций парижском журнале «Синтаксис» – по горькой иронии истории литературы последнее дошедшее до нас стихотворение Мандельштама увидело свет последним из его новонайденных текстов – В.А. Швейцер сопроводила «Стансы» «смягчающей» интерпретацией, усматривая в них некую «неоднозначность и двусмысленность» и даже – входящую в очевидное противоречие с обозначенным заголовком жанром – иронию [566]. Текст, однако, на наш взгляд, не дает к этому никаких поводов. В связи с установлением места «Стансов» в литературной стратегии Мандельштама необходимо вернуться к замечанию Павленко об ощутимом влиянии Пастернака на эти (по нашему предположению) стихи.
Возвращение Мандельштама 30 мая 1936 года к финалу стихов о погибших летчиках, которое, по словам поэта, «раскрыло то, что меня закупорило, запечатало» [567], произошло в тот самый день и после того, как он в «судорогах от восторга» (по свидетельству Рудакова) прочитал подборку стихов Пастернака в апрельском «Знамени» (1936. № 4). Эта подборка, называвшаяся «Несколько стихотворений», открывалась стихами о Сталине, ранее опубликованными в «Известиях» (1 января 1936 года; эту публикацию Мандельштам, находившийся тогда в санатории в Тамбове, видимо, пропустил [568]).
Написанные в конце 1935 года «сталинские» стихи Пастернака – «Я понял: все живо…» и «Мне по душе строптивый норов…» – отмечают момент наибольшего сближения поэта с вождем, начало которому было положено их телефонным разговором о Мандельштаме в июне 1934 года. Стремясь загладить неудачу этой, прерванной Сталиным после слов Пастернака о желании поговорить о «жизни и смерти», беседы, свои последующие эпистолярные обращения к Сталину Пастернак выстраивает с учетом «уроков» телефонного разговора. Помня упрек Сталина в недостаточной энергии, с которой он вступается за Мандельштама («Я бы на стену лез, если б узнал, что мой друг поэт арестован» [569]), свое письмо Сталину 1 ноября 1935 года с просьбой освободить арестованных в Ленинграде Н.Н. Пунина и Л.Н. Гумилева – мужа и сына А.А. Ахматовой – Пастернак начинает с отсылки к телефонному разговору 1934 года и целиком выстраивает как письмо в защиту Ахматовой. Не будучи на этот раз связан необходимостью болезненных умолчаний (вызванных опасениями из-за антисталинского характера текста Мандельштама и вопросом о том, знает ли собеседник о его знакомстве с текстом), Пастернак делает акцент на «честности» Ахматовой и рисует Сталину ее трудное положение в современной советской жизни откровенно, без «обычного советского тона» [570]. Освобождение Пунина и Гумилева через день после отправки этого письма Сталину, названное Пастернаком «чудесным молниеносным» [571], поэт читает как сигнализирующее о верности взятого им тона и еще одним обширным письмом Сталину в декабре 1935 года вновь – после неудачи 1934 года – пытается установить с вождем отдельную, не обусловленную темой репрессий, содержательную коммуникацию. Мотивировкой ее служит, по словам Пастернака, чувство личной связи между ним и адресатом, позволяющее ему обращаться к Сталину, «по-своему <���…> повинуясь чему-то тайному, что помимо всем понятного и всеми разделяемого, привязывает меня к Вам» [572].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу