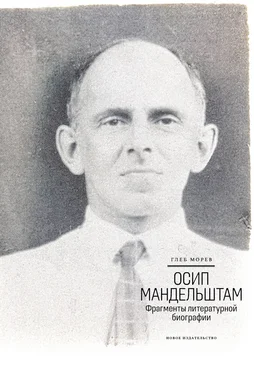Ситуация не выглядит противоречивой, если иметь в виду принципиальное для советских литературных инстанций различие между «старым мастером» (и потенциальным полем его использования) и актуальным советским автором. Мандельштаму как «культурной силе» (по определению П.Ф. Юдина) предоставляется право работать и/или публиковаться как сотруднику радио, театра, очеркисту, рецензенту– при этом реализуется его легитимная с точки зрения советской литературной идеологии прикладная функция «специалиста» и квалифицированного знатока культуры. В то же самое время его выступление в печати с (пусть вполне «выверенным» идеологически) оригинальным текстом не выполняет санкционированной властью экспертной функции, являя собой попытку проникновения в идеологически маркированную зону художественного творчества – и потому блокируется на стадии гранок.
Это положение остро переживается Мандельштамом:
В Воронеже я благополучен: должен писать книгу о городе, колхозные очерки, передачи о Гете, Павке («[Как закалялась] Сталь»), Платоне etc. объяснять всех музыкантов мира – для радиоконцертов, давать советы руководителям радиоцентра, исправлять для [воронежского] Большого театра переводы Шекспира Соколовского и Радловой, создавать итальянские песенки, сочинять на немецком и французском языках приветствие Коминтерну, режиссировать в театре, поддерживать связь театра с Союзом [писателей] <���…> поддерживать неугасимо хорошее настроение, готовить собрание сочинений; при всем этом не мозолить глаза общественности, а быть в рамках вспомогательной работы, черновых ролей… —
с горькой иронией говорит он Рудакову 28 октября 1935 года [502]. Ироническая интонация маскирует здесь вовсе нешуточную цель Мандельштама, ради достижения которой и предпринимаются синхронные шаги вроде письма/заявления Минскому пленуму ССП, – полноценную ресоциализацию, «признание меня снова писателем» [503].
Ситуация осложняется тем, что, несмотря на изменение идеологических координат и полную политическую лояльность, литературного признания Мандельштам по-прежнему требует на своих условиях [504]— «писателем» в презираемом им смысле, автором «разрешенной литературы», «приспособленцем» он быть не может. Ни о каких компромиссах, возможных, скажем, для Клюева («Стихи из колхоза»), речь не идет.
Я не могу так: «посмотрел и увидел». Нельзя, как бык на корову, уставиться и писать. Я всю жизнь с этим боролся. Я не могу описывать, описывать Господь Бог может или судебный пристав. Я не писатель.
Я не могу так, —
заявляет он 2 августа 1935 года после неудачной попытки написать «колхозный» очерк [505]. Лишь внутренняя органичность вещей, их соответствие авторскому видению, не обусловленному внешним давлением, служит для Мандельштама залогом их ценности и действенности. М.Л. Гаспаров, анализируя авторские редакции «Стихов о неизвестном солдате» (1937), убедительно показал, как «в смене редакций „Неизвестного солдата" <���…> мы видим каждое его [Мандельштама] движение навстречу советской современности, как под микроскопом. Ни приспособленчества, ни насилия над собой в этом движении нет – есть только трудная и сложная логика поэтической мысли» [506].
Для такого автора, еще и стигматизированного в качестве идеологически не вполне надежного «старого мастера», пропуск в «невспомогательную» (а потому особо контролируемую) область советской литературы не мог быть выдан на уровне редакции журнала «Подъем» или даже московского ССП – он требовал санкции политического руководства.
Именно инерционным сохранением принципиальной (идеологической) границы между социокультурными ипостасями Мандельштама – разрешенной («мастера»-наставника, переводчика [507]) и запрещенной (поэта) – объясняется поведение как редакции «Подъема», так и московских чиновников из ССП. Собственно «идейное содержание» и «стилистика» текстов имели при этом второстепенное значение. Это поняла бравшая на себя труд общения с московским ССП Н.Я. Мандельштам, после очередного обсуждения стихов Мандельштама с высказанными очередным функционером Союза стилистическими претензиями писавшая мужу:
Конкретный ответ – это вопрос о том, можно ли тебя сейчас печатать. Все разговоры о качестве – уклонение от ответа на основное: нужны ли вообще эти стихи? Я не понимаю, что такое «гудочки» плохо, потому что это уменьшительное. Я понимаю другое: мировоззренческий нравственный сгусток. Нужен он или нет. Входит он в действительность или нет [508].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу