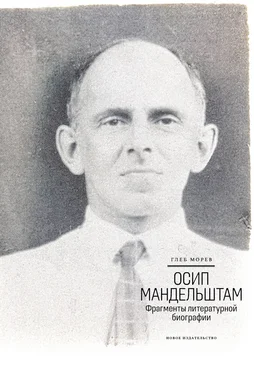До сообщения Н.Я. Мандельштам о звонке Сталина поэт, судя по написанной по пути из Москвы в уральскую ссылку «басне» «Один портной…», построенной на каламбурном соединении «(высшей) меры» и «(портновской) мерки» [468], свой, против ожидания, мягкий приговор связывал с нервным срывом и суицидальной попыткой на Лубянке («С себя он мерку снял – И до сих пор живой»). В этой логике чердынский «прыжок» способствовал дальнейшему смягчению приговора [469]. Сведения о вмешательстве в дело Сталина меняли картину.
Теперь Мандельштаму было ясно, что, несмотря на то что он был арестован за оскорбительные для Сталина стихи, вождь лично способствовал смягчению его участи. По мысли поэта (которому, разумеется, не была доступна информация о направленной на сокрытие его текста тактике Агранова, приведшей в силу случайного стечения календарных обстоятельств к недовольству Сталина действиями ОГПУ), это случилось вследствие того, что «стишки, верно, произвели впечатление» [470]. Этот «литературоцентричный» ракурс подтверждал и в каком-то смысле провоцировал и выбор Сталиным поэта в качестве собеседника о деле Мандельштама. В сознании Мандельштама «милость» Сталина оказалась соотнесена с поэтическими достоинствами его стихов, которые Сталин – несмотря на всю их оскорбительность – сумел оценить. Судя по сохраненной памятью Н.Я. Мандельштам реплике («Почему Сталин так боится „мастерства"? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить…» [471]), для Мандельштама было очевидно, что его «помилование» вождем непосредственно связано с официальной идеологией заботы о «мастерах». Возникновение этой отдающей дань «мастерам культуры» и оказавшейся спасительной для него идейной тенденции он склонен был объяснять имманентной «настоящим» стихам иррациональной силой, в существовании которой был убежден: «Поэтическая мысль вещь страшная, и ее боятся… <���…> Подлинная поэзия перестраивает жизнь, и ее боятся…» – заявляет он С.Б. Рудакову 23 июня 1935 года [472]в разговоре, имеющем в виду, по нашему мнению, сравнительно незадолго до этого полученное известие об участии Сталина в его деле. Парадоксальным образом идея коммуникации со Сталиным, следы которой можно увидеть и в письме поэта Мариэтте Шагинян, и в донесении сексота ОГПУ (лето 1933 года), оказывалась реализованной: Сталин становился читателем — понимающим читателем! – Мандельштама. Эта утопическая конструкция меняла не только картину хода дела и вынесения приговора, но и всю картину мировосприятия поэта.
До Воронежа осмысление Мандельштамом политической проблематики было – в русле всех внутрипартийных оппозиций конца 1920-х – начала 1930-х годов – предельно персонифицировано: все неприемлемые для него черты советского режима – и прежде всего, жестокость и палачество – воплощались в фигуре Сталина. Следствием этого стала направленная «не против режима, а против личности Сталина» [473]стихотворная инвектива. Та же особенность восприятия Мандельштамом социальной реальности сохранится и после получения известий об участии Сталина в его судьбе – но теперь с обратным знаком: все привлекающее поэта в новом советском обществе – масштабность большевистского социального эксперимента, его «историческая правота» и прокламируемая устремленность в будущее – будет заключаться в персоне Сталина, становящегося с 1935 года настоящей поэтической обсессией Мандельштама.
В связи с посещением Мандельштамом в конце 1934 года психиатра в Воронеже Н.Я. Мандельштам пишет о его принадлежности к людям, которые «превращают в навязчивые идеи каждое тяжелое [resp. значительное] для них биографическое событие» [474]. Таким событием, связанным одновременно и с тяжелой травмой ареста и с радостью «помилования», стало для Мандельштама участие в его деле Сталина. Психологический механизм реакции Мандельштама на произошедшее с ним тонко раскрыт (отчасти как раз в связи с его делом) в дневнике М.М. Пришвина, которого много лет занимала фигура Сталина. В ноябре 1936 года Пришвин записывает: «Он [Сталин], вероятно, беспрерывно „прижимает человека к стене”, ловит его с поличным его блажи < sic!> и <���…> отпустив, делает своим человеком навсегда <���…> Не дай-то Бог попасть в такой нравственный плен!» [475]Именно о своего рода нравственном плене мы можем вести речь в случае Мандельштама [476].
На новом, наступившем после получения информации о вмешательстве Сталина, биографическом этапе послуживший причиной его ареста текст «Мы живем, под собою не чуя страны…» квалифицируется Мандельштамом как «нелепая затея» [477], неорганичный «контрреволюционный выпад» (III: 544-545), «политическое преступление» (III: 563). Текст фактически деавторизован – даже ближайший конфидент Мандельштама в Воронеже, его «официальный» биограф С.Б. Рудаков, кому доверен архив поэта и чья надежность не вызывала сомнений, не будет ознакомлен с инвективой [478], а в составленном Н.Я. Мандельштам под наблюдением поэта в Воронеже полном списке его стихов с 1930 года (так называемом Ватиканском) для инвективы даже не оставлено пустого места (как это было сделано для не записанной из осторожности «Квартиры») [479]. «Говорил Мандельштам о Сталине благожелательно», – вспоминал лето 1935 года воронежский знакомый поэта антрополог Я.Я. Рогинский [480]. Начиная с этого времени, поэт создает восемь текстов, полностью или частично инспирированных образом Сталина [481], – беспрецедентное для русского поэтического канона число.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу