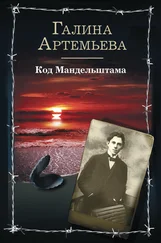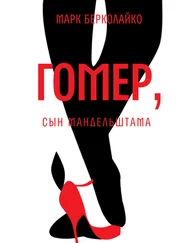Стоики считали, что материя возникает из Бога‐огня вследствие уменьшения его напряжения, что полностью соответствует каббалистическому понятию «цимцум», Божественному «сокращению», в результате которого создан мир…
Тот же мотив в «Грифельной оде» («несет горящий мел и грифель кормит»).
«Путешествие в Армению».
Там же.
Бергсон, «Творческая эволюция».
«Меганом» (1917).
М. Гершензон, «Судьбы еврейского народа» (1922).
С.Я. Сендерович, «Фигура сокрытия», М, Языки славянских культур, 2012.
Д. Фролов, «Мандельштам и мусульманский Восток», сборник «Сохрани мою речь…» 4/2, М, 2008, стр. 427–428.
Там же. (Текст Розанова из книги «Религия и культура», 1899, глава «Нечто из седой древности»). У Розанова подобное сравнение имеют и сексуальный подтекст.
В.В. Розанов, «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира».
В его «личной» метаморфозе есть и национальный оттенок, т. е. приобщение к общенациональному преображению, оно шло параллельно (возвращение в Сион) и совпало со сроками жизни поэта.
И. Бабель, «Как это делалось в Одессе».
«Воздушно‐каменный театр времен растущих/Встал на ноги, и все хотят увидеть всех —/ Рожденных, гибельных и смерти не имущих». («Где связанный и пригвожденный стон?..» 1937)
«обрести “в качестве настоящего все прошлое человечества”… “оживить” умершую уже жизнь, “пережить ее заново”, “возродить ее для сегодняшнего дня”» (В. Дильтей, цитирую по книге П.П. Гайденко «Время Длительность Вечность»).
«Я скажу это начерно, шопотом…» (1937).
Вяч. Иванов, Cor Ardens, «Созвездие Орла».
Вяч. Иванов и Михаил Гершензон «Переписка из двух углов». Любопытно (и это – тема, достойная отдельного рассмотрения), что в результате спора о сути культуры, в коем Иванов придерживается «иудейского» подхода памяти‐становления («Я – семя»), а Гершензон поначалу хочет сбросить с себя «как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственные достояния человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство постижений, знаний и ценностей». Но по ходу разговора к Гершензону приходит понимание, что он хочет сбросить себя бремя именно русской, языческой по сути, культуры: «Я говорю Перуну: ты деревянный идол, не Бог; <���…> вы же стараетесь уверить меня, что этот истукан‐символ моего же Божества, и что стоит мне только постигнуть его знаменование, он вполне заменит мне Бога… но его вид так страшен и противен моему чувству, что я не могу совладать с собою. Я помню все жертвы, которые мы ему приносили, и думаю о тех, которые мне изо дня в день придется еще приносить ему по указанию его жрецов, – тяжелые, кровавые жертвы! Нет, нет! Это не Бог!» Вяч. Иванов прекрасно понимает, откуда ветер дует, и открывает Гершензону его собственные карты: ««Добрый путь в землю обетованную»– хочется крикнуть вам вслед, ибо вы сами об ней упоминаете, и грезится вам, конечно, она, – ее гроздия и смоковницы <���…> И не отдадите вы своей кочевой непоседливости <���…> за мясные котлы Египта, и его храмы, пирамиды и мумии, и всю мудрость, и все посвящения египетские. Вы вкусили от этой мудрости, от этих посвящений, как Моисей, и хотели бы все забыть; ненавистен вам Египет, – опротивела мумийная «культура»… Опять обелиск, опять пирамида! <���…> чресла ваши препоясаны, и горящий взор мерит горизонты пустыни: «только, прежде всего, прочь отсюда, вон из Египта!» В результате Вяч. Иванов провоцирует Гершензона на откровенность, под коей мог бы «расписаться» и Мандельштам: «Я живу странно, двойственной жизнью. С детства приобщенный к европейской культуре, я глубоко впитал в себя ее дух и не только совершенно освоился с нею, но и люблю искренно многое в ней, – люблю науку, искусства, поэзию, Пушкина. Я как свой вращаюсь в культурной семье, оживленно беседую с друзьями и встречными на культурные темы, и действительно интересуюсь этими темами. Тут я с вами; у нас общий культ духовного служения на культурном торжище, общие навыки и общий язык. Такова моя дневная жизнь. Но в глубине сознания я живу иначе. Уже много лет настойчиво и неумолчно звучит мне оттуда тайный голос: не то, не то! Какая‐то другая воля во мне с тоскою отвращается от культуры, от всего, что делается и говорится вокруг. Ей скучно и не нужно все это, как борьба призраков, мятущихся в пустоте; она знает иной мир, предвидит иную жизнь <���…> Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим туземцами, и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага, болею их болью и радуюсь их радостью, но и знаю себя чужим, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цветов и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине. Минутами я так страстно тоскую о ней! <���…> Вы, мой друг, – в родном краю; ваше сердце здесь же, где ваш дом, ваше небо – над этой землею. Ваш дух не раздвоен, и эта цельность чарует меня… И потому я думаю, что в доме Отца нам с вами приуготовлена одна обитель, хотя здесь, на земле мы сидим упрямо каждый в своем углу и спорим из‐за культуры…» Двурушник я, с двойной душой…
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)