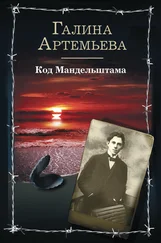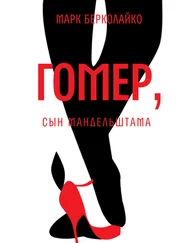Версия высказана Матвеем Рувиным, соавтором нашей с ним книги «Шатры страха».
«Ты красок себе не жалела…» (1930).
О. Павел Флоренский пишет об «особой психофизической организации» некоторых людей. «Например: явление цветного слуха, ассоциация запахов со звуками, цветами и т.д., и всегда это возможно потому, что происходит объединение этих ощущений, к которым большинство не склонно». («Анализ пространственности и времени в художественноизобразительных произведениях».)
Синестезией увлекался и Хлебников.
«Когда мозаик никнут травы…» (1910).
Хлебников связывает синий и желтый общим значением потустороннего, пророческого, запредельного, у него, как пишет Е.С. Жданова, «цветки медуницы (жёлтые) и цветы незабудки организуют временнóй контекст» (Символика синего цвета в поэтических текстах В. Хлебникова).
«Путешествие в Армению».
Там же.
О. Мандельштам, «Довольно кукситься!…» (1931).
Фраза Мандельштама о тоске по мировой культуре дошла до нас из книги «Воспоминания» Надежды Яковлевны: «Это было в тридцатых годах либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в воронежском Союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане»…» По мнению Надежды Мандельштам эта «ясная тоска» и есть «тоска по мировой культуре». Но, если придерживаться смысла слов самого поэта, это его тоска не по мировой культуре, а по воронежским холмам. Это они не отпускают его «к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане», к этой самой «мировой культуре». То есть у поэта речь здесь о тоске по России, с которой он мысленно уже расстается, мечтая «распахнуть, да как нельзя скорее, на Адриатику широкое окно» («Ариост», 1933–35).
Так гранит зернистый тот
Тень моя грызет очами…
Это о камнях Флоренции… Никакой «тоски по мировой культуре» у Мандельштама никогда не было, он всегда ощущал себя ее частью.
Дерпт, он же Тарту, он же Юрьев, был присоединен к Российской империи Петром Первым только в 1704 году (до этого пять веков, с перерывами, был немецким), причем царь произвел массовую депортацию шведского населения (немцев и эстов оставил), и не в Швецию, а в Сибирь. Языков учился в Дерптском университете лет восемь, но так его и не закончил.
У Вяземского есть и «антипатриотическое» стихотворение «Русский Бог»:
Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог….
Ну и т.д.
Этот «угодливый покат» Мандельштам помещает в центр русской земли: «На Красной площади всего круглей земля/И скат ее твердеет добровольный», то есть выбранный по своей воле, как и Сталин, «большевик – единый, продолжающий, бесспорный,/Упорствующий, дышащий в стене. Привет тебе, скрепитель добровольный», и поэт твердит это уже лежа в земле: «Да, я лежу в земле, губами шевеля…». О нелюбимой земле, в которой выбрал лежать, многие стихи 30‐х годов: ««Лишив меня морей, разбега и разлета/И дав стопе упор насильственной земли»; «Чуден жар прикрепленной земли». Он крепостной на этой насильственной земле. И она же для него – «последнее оружие»…
Позднее этот путь повторит Иосиф Бродский, уходя в английскую речь.
Поэма Некрасова «Современники» (1875).
Как писал В. Парнах в «Пансионе Мобер»: «О, страшная сила, которая так жестоко связывает меня с этой страной! Язык! Писать по‐русски? Не преступление ли это против гонимых Россией евреев? Если бы я мог разорвать эту связь! Не писать больше по‐русски, писать на другом языке, для других людей!»
Лев Городецкий в книге «Квантовые смыслы» утверждает, что «языковая картина мира» (ЯКМ) у Мандельштама была именно еврейской, а от русской ЯКМ он отталкивался, как от противоположной. Так, например, «Мандельштам отвергает априорную позитивность в русской ЯКМ системы слов‐концептов прямизна/прямодушие/прямота/единодушие. Он сознательно «сопротивляется» давлению русской ЯКМ и русских культурных скриптов, в которых концепт «непрямой = кривой» однозначно резко негативен». Он называет себя «двурушник я, с двойной душой» , любит «кривые вавилоны» улиц и «честные зигзаги речей», и даже у Данте выделяет «страх перед прямыми ответами». «В некоторых местностях Восточной Европы распространены поверья о еврейских «колдунах‐двоедушниках» (они же «жиды‐ночники»)». Уже само стремление «уйти из нашей речи», постоянное подчеркивание «чуждости» («О, как мучительно дается чужого клекота полет») – признаки еврейской жизненной парадигмы. Городецкий пишет о стремлении поэта «выйти за пределы языка» и «постоянное «вшивание» Мандельштамом других языков в ткань его русской речи, т. е. постоянное порождение «межъязыковых интерференций»«, и приводит многочисленные примеры активного включения Мандельштамом немецких и идишских компонентов в свою речь. О том же, как «слово чужого языка прорастает щедрым пучком смыслов в родном, русском языке» пишут и авторы книги «Миры и столкновения Осипа Мандельштама» Г. Амелин и В. Мордерер.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)