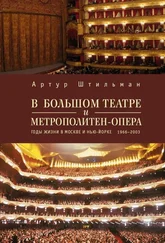Со времен Пушкина литературный Петербург – это, помимо всего прочего, контраст между величественным фасадом и задворками, «подпольем», в котором живут герои Гоголя и Достоевского. В ваших нью-йоркских стихах парадного, «открыточного» Нью-Йорка почти нет. Напротив, ваш Нью-Йорк – это не Бродвей, не Times Square, не небоскребы, а Бронкс, пуэрториканские районы, окраины, задворки столицы мира. В какой мере и насколько сознательно вы продолжаете таким образом петербургскую традицию? Или Петербург здесь ни при чем? Но если это так, то ориентируетесь ли вы на классический девятнадцатый век или скорее на (суб)культуру шестидесятых – семидесятых годов XX века? (В конце концов, Виктор Цой тоже пел не о Дворцовой площади, а о проходных дворах и своей котельной.)
Ни открыточного Нью-Йорка, ни открыточного Петербурга у меня нет. Туристских стихов не бывает, хотя они кем-то пишутся. Я понимаю традицию не как следование определенным темам, а как следование себе, как верность себе, как пушкинский завет:
…Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
иди, куда влечет тебя свободный ум [225]…
Я и мои друзья взрослели в мрачную и унылую пору брежневского правления. Иметь дело с государством не хотелось, уходили в кочегары, в грузчики, в дворники, кто куда, но подальше от социума. Поэтому – задворки империи, а не парадные подъезды, захваченные большевиками. Между тем все не так уж прямолинейно. У меня есть, допустим, в стихах вполне «туристическая» Петропавловская крепость… Но я родился и несколько десятков лет жил в двух шагах от нее, работал там гидом – для меня она не туристическая, а домашняя… Здесь, в Нью-Йорке, многие из нас тоже оказываются не в самых богатых кварталах. Жить в Манхэттене не по карману. Вот и все объяснение.
У вас есть стихотворение «Эмигрантское», и в нем происходит характерное наслоение одного языка на другой: сначала вы называете нью-йоркские реалии их английскими именами («это билдинг, это гарбидж, / это, в сущности, ничто»), а затем «переводите» их в русскую литературную традицию: «Это билдингская осень / в темно-бронксовых лесах». Здесь, с одной стороны, конечно, угадывается Болдинская осень, то есть Пушкин и XIX век, а с другой, как указывает Сергей Слепухин, пародия Владимира Соловьева на «Русских символистов»: «Горизонты вертикальные / В шоколадных небесах, / Как мечты полузеркальные / В лавровишневых лесах» [226]. Прокомментируйте, пожалуйста, как родился этот образ? Что это – одомашнивание нового языка и новой географии или, наоборот, дефамилиаризация родного языка, культуры и литературы средствами нового языка и реалиями нового для вас города? Видите ли вы в подобной игре языков какой-то особый поэтический потенциал?
Может быть, здесь имеет смысл добавить несколько слов об эмиграции вообще. Это специфическое и тяжелое явление, если говорить о темной его стороне. О светлой стороне, как правило, нечего сказать, кроме того что есть множество спокойных людей, не стремящихся к славе и признанию, усердно работающих, знающих свою профессию и далеких от тщеславных забот и язвительных препирательств с невозмутимой Америкой. Именно своей невозмутимостью Америка изводит людей творческих профессий, не уделяя им должного, как они полагают, внимания. Оттого-то многие из них, покрутившись здесь в 90-е годы и обзаведясь «запасными аэродромами» в виде квартир или детей, вернулись к своим читателям и слушателям в фестивальную Россию. Не только «творческим» эмигрантам свойственно относиться к Америке потребительски и по-хамски – пользоваться вдоль и поперек всеми благами и ненавидеть за дурной вкус, глупость местных жителей и пр. Еда? Дерьмо. Посмотрите, они все страдают от ожирения. Благотворительность? Ну конечно, так они покупают себе место в раю. Кажется, что некоторые российские деятели искусств, приезжающие в Америку с гастролями, держатся из последних сил, чтобы не нахамить. Кому? Всему. Они здесь никто (как они думают, и, возможно, прозорливо думают), а для российского интеллигента это невыносимо – ведь на родине он положил жизнь на то, чтобы иллюзию собственной значимости пресуществить в переживание значимости неиллюзорной.
В романе более или менее знаменитого эмигранта из Боснии Александара Хемона герой продает американцам в Берлине куски разрушенной Берлинской стены. «За спиной у американцев болтались пустые рюкзаки, которые они во что бы то ни стало желали набить бетонными обломками истории» [227]. При этом он торгует поддельными кусками! Не ограбить, так уворовать и нажиться на доверчивой тупости американцев. Это ли не образ разложившейся до полного смрада империи, когда даже руины становятся фальшивыми?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


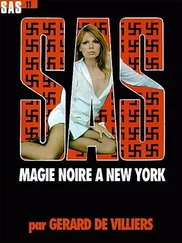
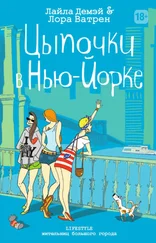




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)