Что же изменилось на том корабле, который, как вы сказали, уплыл? В частности, что поменялось в жизни русской литературной диаспоры в Нью-Йорке с исчезновением таких «фарватеров», как Довлатов и Бродский? Я имею в виду третью волну, которая, как принято считать, закончилась в начале 90-х.
Интересный вопрос. Повторюсь, я не думаю, что в Нью-Йорке была какая-то серьезная литературная диаспора. Бродский был сам по себе, Довлатов тоже. (Кстати, нечастый пример прекрасного писателя, который весьма успешно косил под беллетриста.) Сейчас, со стиранием границ и появлением интернета, слово «эмигрант» отчасти потеряло свой прежний смысл. Сюда теперь часто приезжают поэты и писатели из Москвы и из других мест – наверное, почти каждый месяц. Это прекрасно, потому что их приезды объединяют географически разрозненную литературу во что-то единое, целое.
Я думаю, сейчас нет особых специфических проблем, связанных с «эмигрантской» литературой в качестве составной части литературы русской. Кроме, возможно, одной: многим русским, живущим на Западе, кажется, что они со стороны лучше понимают происходящее в России. Многим жителям метрополии кажется совершенно наоборот. Но, опять же, речь о недоразумении. В связи с последними событиями многие поэты перессорились друг с другом, но линия раскола ничуть не совпала с государственной границей РФ (хотя «национал-патриотов» за границей оказалось намного меньше, чем «национал-предателей»). Тут я стараюсь не торопиться с выводами. Взять Эдуарда Лимонова – фашист фашистом, а какие прекрасные стихи писал когда-то! Руки я ему не подам при встрече, но как это должно отражаться на стихах? Никак. Большой поэт, и все тут.
Вы общались с Лимоновым в Америке?
Никогда. Он близко дружил с Цветковым. Из той компании я много раз встречался с Сашей Соколовым, и одно время мы были даже дружны.
Существовала ли для вас в эмиграции проблема «отцов и детей»? Как складывались ваши отношения с эмигрантами старшего поколения? Были ли какие-нибудь разногласия в стиле, языке, идеологии, политике?
За исключением мелких политических разногласий, никаких проблем не было. Я был знаком с Лебедевым, ныне покойным, который говорил на прекрасном, старомодном русском языке (он родился в Риге, потом жил в Германии, потом в Канаде; его жена Лена выросла в Югославии и ни разу не была в России). Они говорили на русском языке моей мечты! Но сейчас я и сам часто слышу: «Какой у вас очаровательный старомодный язык!» А у меня всегда был такой язык.
Мой друг Женя Соколов, который работает на радио «Канада», составил великолепную аудиобиблиотеку: интервью с представителями первой и отчасти второй эмиграции. Слушать этих людей – чистое наслаждение. Ты понимаешь, что это, в общем, такие же люди, как мы. И если кто-то из них говорит «телефонировать», то ничего страшного в этом нет.
Похоже, что для людей, выросших в советской России, такие слова, как «телефонировать», действительно были скорее музыкой, чем атавизмом. Но, с другой стороны, например, для редактора «Нового журнала» Романа Гуля или редактора газеты «Новое русское слово» Андрея Седых советский вариант русского языка, который привезла с собой третья эмиграция, был абсолютно неприемлем. Это зачастую вело не только к непониманию, но и к идеологическим конфликтам между поколениями. Разве не так?
Никто из близких мне людей никогда не говорил на советском языке. В конце концов, Набоков стал моим любимым писателем задолго до моего отъезда из России.
А «Прогулки с Пушкиным» Синявского, вызвавшие такое негодование у эмигрантов старшего поколения, например у Романа Гуля?
Бедный Гуль! Синявский устроил великолепный модернистский балет. Естественно, его мало кто понял. На нашу священную корову с ножом полез! Смешно. Кому-то это представляется обидным. Но почему? Потому что привыкли к такому Пушкину.
К статуе?
Отлитой из советского алюминия. Да ведь не такой был Пушкин. Он был веселый, вертлявый, бабник, картежник. Гений, конечно, но разве должны мы из-за этого стоять возле него по стойке смирно?
Разногласия между поколениями эмиграции в какой-то степени определяли ваш выбор, где печататься? Например, когда в Нью-Йорке одновременно выходили и «Новое русское слово», и «Новый американец», а в Париже сосуществовали такие журналы, как «Синтаксис» и «Континент» (хотя оба журнала были продуктами уже третьей волны).
Да, я помню. Но я печатался и в «Континенте», и в «Синтаксисе». Мне это почему-то прощали. Это разговор не о конфликте между поколениями, это по другой части. Просто сходятся непохожие люди, и возникают противоречия, в том числе и между поколениями. Конечно, люди, прожившие здесь сорок лет, тем более в советские времена, имели несколько устарелое представление о России. Почитаешь «Грани» [210], так у них на каждом углу стоят вооруженные солдаты КГБ, самиздат конфисковывают, людей расстреливают на месте, сплошные узники совести и так далее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
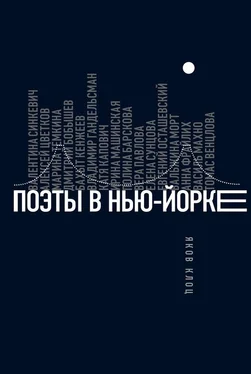
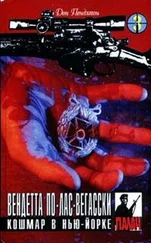






![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)


