Я был тогда аспирантом в Мичигане и участвовал в качестве приглашенного писателя. Для нас тогда было важно провести грань между нами и «военной эмиграцией», то есть второй волной. Были, конечно, еще какие-то обломки первой эмиграции, причем даже больше в Сан-Франциско, куда приезжали из Китая, чем в Нью-Йорке. Но настоящих эмигрантов первой волны было уже немного (были их дети, выросшие в Харбине, Рио-де-Жанейро, Белграде). Но главным образом на той конференции возникло противостояние между старым совписовским кадром, который толкал позицию, что надо бороться с советской властью, и нами, молодежью (я, Лимонов и Саша Соколов). Я, собственно, тоже боролся с советской властью, но, в отличие от тех, не состоял в Союзе писателей. Мы вступались за литературу и выступали против того, чтобы она использовалась как орудие борьбы с советской властью [118]. Помню еще, что там я покрыл Коржавина, у которого была любимая речевка, что, мол, Бродский – плохой поэт, но при этом у него есть одно хорошее стихотворение (не помню, какое он называл). И я ему сказал, что о нем думаю.
Почти как у Довлатова в «Филиале», где Коржавин (у Довлатова – Рувим Ковригин) якобы оскорбил целый город, сказав, что Бродский, хотя и ленинградец, хороший поэт [119].
Довлатов все наврал. Такого я не помню. Я перечитывал, что Довлатов написал об этой конференции, и мало что сходилось.
Был ли на той конференции какой-нибудь генеральный вопрос? У Довлатова это вопрос об одной или двух русских литературах.
Главный вопрос, видимо, так и стоял: как нам бороться с советской властью? По крайней мере, его старались вогнать в повестку. А мы пытались противостоять. Впрочем, не ручаюсь. О вопросе про одну или две русские литературы, наверное, тоже шла речь. Тогда он стоял еще довольно остро, потому что сообщение с Россией было слабое.
Сам вопрос возник в 20-е годы в Париже…
Естественно, но для нас он стоял как наш собственный. Хотя наша ситуация была полегче, потому что была переписка, хотя и не очень надежная. Большинство писем все-таки доходили. В 20-е годы переписка людей, конечно же, обрывалась: письмо из-за границы – и тебя уже волокут.
Зиновий Зиник заканчивает свою книгу «Эмиграция как литературный прием» мыслью о том, что именно сейчас, вне политического контекста, который всегда ей сопутствовал, эмиграция только «начинается» (в том смысле что всплывают на поверхность ее литературные мотивы, остававшиеся раньше в тени политики). Вы согласны с таким пониманием эмигрантской литературы?
Зиник перегнул палку, потому что не так уж много осталось. Хотя кое-что от тех времен, конечно, сохранилось. Тогда шла довольно бурная деятельность: журналы расцветали пышным цветом, кое-кто как писатель родился только в эмиграции. Я сам бóльшую часть жизни провел в эмиграции. Лосев. Саша Соколов. У Соколова эта тема есть в его третьей книге «Палисандрия».
С чем для вас лично сопряжена ситуация писателя, живущего в другой географии и в другом языке? Чему эта ситуация способствует, чему мешает?
Вы пытаетесь заставить меня вылезти из собственной шкуры. Это моя жизнь, я к ней уже привык, мне уже не с чем ее сравнивать. Мне бы сейчас очень мешало, если бы я, например, жил в России. То время я вспомнить уже не могу и не очень идентифицируюсь с тем временем. Не говоря уже о том, что у меня был и творческий перерыв в семнадцать лет. Я тех своих стихов не читаю (только когда надо собрать очередную книгу). Конечно, какая-то странность в такой ситуации присутствовала. Тогда, в первые мои годы здесь, я довольно интенсивно переписывался с друзьями в Москве, мы посылали друг другу стихи прямо в тексте письма, и в этом была какая-то странность. Но, в общем, уже тогда я ощущал себя обеими ногами в Америке.
Чем, на ваш взгляд, объясняется тот факт, что третья волна оказалась в целом более восприимчива к новому языку, новой культуре и новой географии, чем первая?
Гетто. Многие в первой волне приехали в эмиграцию уже с репутацией. Но кто в Париже мог знать, какая у них репутация? Они там работали шоферами. И вот они собирались друг с другом, чтобы подпитывать свои репутации. А если человек выделялся из общего ряда, как, например, Набоков, который приехал юнцом, то он автоматически становился чужим. Для меня было важно вырваться из Нью-Йорка, поездить по миру и особенно – поступить в аспирантуру, пожить в университетском городе. Говорят, в Анн-Арборе сейчас много русских. А тогда были считаные. Ты просто подброшен и плывешь. Там было невозможно делать вид, что я, мол, вон кто. В Анн-Арборе, конечно, знали, кто я, и отчасти поэтому приняли меня в аспирантуру, но тем не менее. А в Нью-Йорке – они все сидели здесь и говорили друг другу: «Ну, старик, ты великий!» Люди, которые чего-то здесь добились, которые продолжали что-то делать, такие как Бродский, от этого не зависели. У Бродского был свой круг, Нобелевская премия и все такое.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
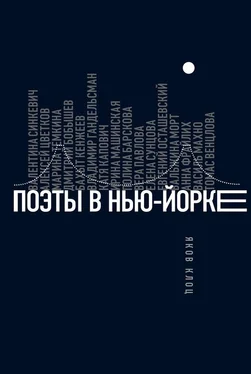
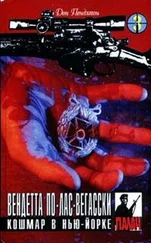






![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)


