Много известных имен в этой книге?
Известных – не очень. Был клоун по фамилии Амарантов. Он сбежал, думая, что здесь станет знаменитым, как Марсель Марсо или Чаплин, но не стал и был вынужден перебиваться с работы на работу, причем всякий раз оказывался на таком расстоянии от службы, что у него уходило полдня только на дорогу. Он страшно жаловался, а потом сошел с ума, кажется, покушался на убийство, вернулся в Союз и умер при невыясненных обстоятельствах. Я его не встречал, но у нас были общие знакомые. Такие случаи бывали, но в 70–80-е годы они никогда не имели организованного характера.
А во времена первой волны движение возвращенцев было организованнее и как-то значительнее. Речь всегда шла о политическом выборе. Многие поэты и писатели были подвержены этим настроениям, достаточно вспомнить Алексея Толстого. Даже Ходасевич перед смертью говорил Берберовой (это, кажется, зафиксировано в ее воспоминаниях): «Давай плюнем на все и вернемся, к черту, в этот Советский Союз». Берберова пишет, что она на это пойти никак не могла, что при одной мысли о Сталине ее охватывал ужас [497], а Ходасевич об этом думал – ради того чтобы показать кукиш своим же эмигрантам. Многие вернулись в Союз из Харбина, хотя там были свои обстоятельства [498]. После войны из Франции приехали с родителями Никита Кривошеин, Андрей Волконский, до войны – Олег Прокофьев. Это мои приятели по Москве. В 1945–1946 годах многие эмигранты решили, что Союз, победивший нацистов, стал нормальной страной, куда не только можно, но и нужно вернуться. Дальнейшая их судьба, как правило, складывалась довольно печально.
Об этом есть фильм «Восток – Запад».
Снятый как раз по воспоминаниям моих друзей. Есть интереснейшая книга Нины Кривошеиной «Четыре трети нашей жизни» – в частности о том, как они с большой помпой плыли до Одессы и только в Одессе поняли, куда попали [499]. Знаете анекдот о человеке, который ходит в полном восторге по улицам советского города и вдруг проваливается в канализационный люк: «Могли же, – говорит, – хотя бы красными флажками окружить!» «А ты, – говорят ему, – когда садился на пароход, разве не видел большой красный флаг?»
Если литература первой волны – это своего рода продолжение Серебряного века, то какую литературную традицию наследовала третья волна?
Более того, даже те, кто стал писателем лишь в эмиграции (тот же Газданов или Поплавский), это тоже продолжение Серебряного века – своеобразное, но продолжение. Говорят, что Газданов – это русский Луи Селин: ночной, страшный Париж. Но Газданов, конечно, не Селин, а скорее некий Пруст с примесью Горького. «Ночные дороги» – своего рода версия «На дне».
Третья волна продолжала традицию русского самиздата, в котором раньше участвовали почти все писатели-эмигранты этой волны. Кто-то из них присутствовал и в официальной печати, такие как Аксенов. Кто-то только пытался туда пробиться (как правило, без особого успеха, но и это скорее случайно). Довлатов, например, вполне мог бы пробиться в официальную печать. Были и те, кто продолжал здесь совписовскую традицию (например, Марк Поповский). Кто-то, конечно, был полностью антисоветским (Алешковский). Но так или иначе существовала традиция контркультуры, на которую почти все здесь опирались, хотя это в известном смысле та же советская литература, только с обратным знаком.
Виктор Некрасов?
И Некрасов, и Гладилин, и Аксенов, который в эмиграции вообще не слишком изменился – просто стал больше себе позволять, причем скорее в сексуальной, чем в политической области.
Но все-таки и в языковой.
И в языковой. Хотя языковые эксперименты у него есть уже в «Затоваренной бочкотаре» и других вещах. Это все советские писатели. Но была и самиздатская контркультура, к которой относится Бродский.
Александр Генис сравнил третью волну и литературу в метрополии с двумя сообщающимися сосудами: чем больше давление в одном, тем выше уровень в другом. А Лев Лосев писал, что литература третьей волны мало чем отличается от литературы, создававшейся в то же время в Союзе, и что ее нельзя считать отдельным явлением. Что вы об этом думаете?
С метафорой Гениса я полностью согласен. Помню, мы разговаривали об этом у Синявского с тем же Генисом и Вайлем и дошли до того, что литература третьей волны – это в общем-то та же советская литература, только со снятой цензурой. Аксенов, Довлатов, тот же Максимов – все они говорили здесь о том, о чем не могли сказать раньше. Но о Бродском я этого уже не сказал бы. Он не был советским в Союзе и не был советским здесь. Солженицын, пожалуй, тоже не был. Кроме того, это еще вопрос масштаба. Как писатель Солженицын в начале своей карьеры был гораздо крупнее Аксенова. И сделал гораздо больше, единолично взорвав советскую литературу изнутри. Солженицын и Бродский – два исключения. Но Аксенов или Довлатов – те продолжали писать примерно то же, что и раньше.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
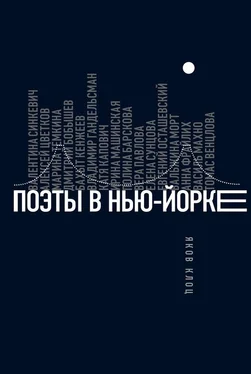
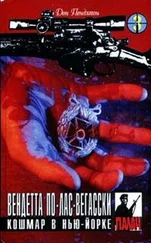






![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)


