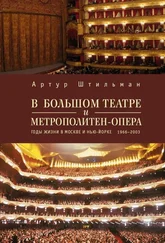А когда вам попалась эта статья?
Году в 75-м или 76-м, мне было 38 или 39 лет. К тому же я просто умирал от мысли, что никогда не увижу Рима, Парижа, Флоренции, Венеции. Правда, когда я исповедовался в этом священнику, отцу Добровольскису, он рассмеялся и сказал, что это совершенно детское отношение к делу.
А вообще желание эмигрировать преследовало меня как минимум со старших курсов университета, года с 58-го. Технически это стало возможно, когда началась эмиграция в Израиль. Я был женат на еврейке, впрочем, по отцу и по паспорту кореянке (моя тогдашняя жена Наталья Огай – мать моей дочери). Но она в конечном счете ехать отказалась, и мы с ней основательно поссорились. В результате я уехал без нее. Мой друг Пранас Моркус всячески ее за это приветствует: мол, если бы не она, то Литва лишилась бы политической фигуры. Иначе вышел бы рядовой израильский эмигрант. Через пять лет она одумалась и выехала ко мне, но ничем хорошим это не кончилось – мы расстались.
Как пролегал ваш маршрут в эмиграцию?
Вильнюс – Москва. Шереметьево – Париж. Три недели в Париже. Из Парижа я прилетел в Вашингтон, где меня встречала литовская община в лице Витолиса Венгриса (это своеобразный человек, которому разрешили эмигрировать к родителям). Из Вашингтона я объехал все Восточное побережье. Выступал в Йеле, где познакомился с Алексисом Раннитом – эстонским поэтом, прекрасно говорившим по-литовски. Был в Бостоне и выступал в Гарварде. Незадолго до меня в Гарварде выступал Андрей Амальрик, который разговаривал с американскими студентами и профессорами примерно в таком тоне: «You must…» – а они этого не любят. Он им приказывал что-то понять, а я говорил, что было бы хорошо, если бы они поняли.
Выступал я по-русски, кто-то переводил. В Йеле на мое выступление пришло человек 15, не больше, среди них Вася Рудич, с которым мы до сих пор дружим. Были выступления в Нью-Йорке, где я, конечно, виделся с Бродским и познакомился с Машей Воробьевой. Затем – Филадельфия и Балтимор. В Балтиморе я отправился на могилу Эдгара По. А уже оттуда вылетел в Чикаго, где попал в настоящее литовское пекло: на мое выступление в Чикаго пришли человек 500. Некоторые сильно волновались: мол, как же так, какой-то вы проеврейский, а мы таких не любим. Я старался отвечать остротами.
На всех своих выступлениях я буквально в шапку собирал деньги и за время поездок по Восточному побережью и Чикаго набрал около трех тысяч долларов. Тогда на эти деньги можно было скромно прожить месяца три. «Ну, – думаю, – теперь я уже ничего не боюсь!»
В Чикаго я купил себе билет на поезд – через Денвер в Калифорнию, посмотрел прерии и вообще так называемый дикий Запад. На вокзале в Окленде, около Сан-Франциско, меня встретила Ася Пекуровская, а в Беркли я познакомился с Милошем и стал преподавать. Получил первую зарплату. Платили мне три тысячи в месяц, так что через три месяца у меня в кармане были уже десять тысяч. Я чувствовал себя миллионером, потому что переводил все это в советские рубли. Мой отец оставил большое, по советским представлениям, наследство в сто тысяч рублей, а у меня через три месяца жизни в Америке оказалось столько же денег, сколько у покойного отца, потратившего на это всю жизнь. Должно было пройти какое-то время, чтобы понять, что это довольно небольшие деньги.
Хотя у вас было приглашение в Беркли, вы не думали остаться в Европе?
Да, приглашение у меня было от Милоша в Америку. Если бы я мог выбирать, я, скорее всего, выбрал бы Европу, а не Америку. Но было совершенно очевидно, что в Европе гораздо труднее найти работу. При этом английский я худо-бедно знал, а по-французски или по-немецки разговаривать не мог. Это, пожалуй, и решило вопрос. Бродский избрал Америку сознательно, он говорил: «Ничего нет скучнее Парижа. Вот Нью-Йорк – это жизнь».
И что если уж происходят перемены, то пусть они происходят по полной [466].
Да, а я так не считал. Париж мне нравился и нравится больше, чем Нью-Йорк. Но что я буду делать в Париже? Работать на радио «Свобода»? Литовская редакция находилась в Мюнхене. К тому же на «Свободе» была абсолютно советская атмосфера: едва ли не все друг друга подсиживали, подозревали друг друга в шпионаже. Я хотел заниматься не радиожурналистикой, а литературой и думал, если не проживу на гонорары (вскоре понял, что на гонорары никто из эмигрантов не живет), то буду преподавать. А это было гораздо легче сделать в Америке, чем в Европе.
Есть ли у вас в памяти последний стоп-кадр, застывший оттиск той жизни, перед самым отъездом? Последнее, что запомнилось в Вильнюсе или Москве?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


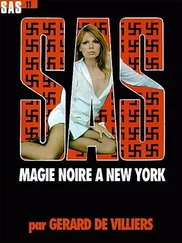
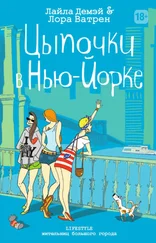




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)