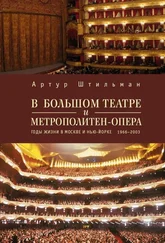Я пробовал переводить себя сам, хотя и не слишком серьезно. Но, во-первых, когда переводишь собственные тексты, начинаешь их переписывать. Во-вторых, я по-русски не пишу, хотя если бы сказал себе, что должен этому научиться, то, наверное, смог бы. Но учиться этому пришлось бы долго, потому что в каждом языке нужно найти свой путь. В русском мне нравится то, что можно играть на этимологии и морфологии, чего по-английски в принципе сделать нельзя.
Есть такие примеры, когда «Спиноза» «проигрывает» в оригинале?
Наверное, нет. Мы не старались превзойти оригинал. Но русский язык по сравнению с английским гораздо более морфологичен: слова легко разбираются на составные части. Мы говорили про английское слово «snake». Но буквально вчера я шел по улице и почему-то думал про слово «admiration» – про то, как это понятие выражается по-русски: «восхищение»? Не совсем, потому что «восхищение» иначе ощущается. То есть могут быть ситуации, когда я употребил бы «admiration», но не сказал бы «восхищение». Например, писатель надписывает книжку. По-английски вполне нормально написать «with admiration», никто ничего не подумает, но если надписать «с восхищением», это уже чересчур. Потому что эта вежливая форма, пришедшая в английский из латыни через французский, достаточно условна. Я просто не думаю, что англоязычный человек воспринимает английское «admiration» так же, как русскоязычный – «восхищение». «Восхищение» – всегда придыхание.
Трепет?
Ну да. Но есть ведь еще и «похищение», и просто «хищение», и так далее.
А когда ты переводил Введенского, какой регистр английского языка казался тебе наиболее адекватным оригиналу?
С Введенским другая проблема – не столько лексическая, сколько ритмическая. Особых лексических выкрутасов у него нет: у него просто свой словарь, который все время повторяется. Так что не в этом была сложность, а в том, что делать с четырехстопными ямбами и хореями, которыми Введенский часто пишет: по-русски это напоминает сказки Пушкина, но по-английски такой ассоциации просто нет. А для Введенского она абсолютно ключевая. Четырехстопный хорей в английской традиции совсем другой. Он другой и ритмически, потому что язык гораздо более односложный, и культурно, потому что такой размер совсем по-другому ощущается. Вообще четырехстопные размеры в английском более закрыты. Можно, конечно, перевести четырехстопный ямб четырехстопным ямбом, но это бессмысленно, потому что такого же четырехстопного ямба все равно не получится. Бродский считал, что язык языком, а размер размером. Я с этим категорически не согласен. Это другая мелодия, другая традиция. Поэтому, когда я переводил Введенского, я пытался создать текст, который производил бы похожий на Введенского эффект, например, был бы так же отрывист, как Введенский в оригинале. Четырехстопный размер по-английски звучит монотонно, но Введенский по-русски не монотонен. Поэтому я отходил от метра, чтобы получалось выпукло – пусть не так же, как в оригинале, но как-то параллельно. Особенно когда работаешь с короткой строкой, нужно воспринимать каждую строчку как отдельную ячейку, как кадры в кино, – блоки текста. Но чтобы при этом получалась какая-то стремительность. [420]
К сожалению, именно это делает сейчас переводы стихов Пушкина на современный американский английский практически невозможными. Вообще я не очень понимаю, как переводить на современный английский русскую поэзию XIX века. Хотя в «Ugly Duckling Presse» недавно вышел огромный том Баратынского в интересных переводах. [421]
Мне кажется, для каждого перевода нужно выдумывать язык заново, как Гнедич «выдумал» русский язык для Гомера. И поэтику нужно выдумывать заново. Точность в переводе – очень высокая точность, интуитивная. Есть вещи важнее рифмы. Если в тексте есть игра, важнее сохранить игру, воссоздать сам тип игры. Поэтому, когда я переводил обэриутов, я вставлял какие-то свои вещи, которые говорят о том, как их тексты отражаются в моем языковом сознании [422]. Происходит встреча-конфронтация переводчика с текстом. Здесь очень высок субъективный момент – не в том смысле, что все дозволено, а в том, что это творческая работа, если хорошо ее делать. Переводы, не похожие на оригинал, могут быть хорошими, а могут быть внешне очень похожими – но плохими.
Апрель 2016 Берлин
БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК
Даже наши матери не знают, как мы родились на свет,
как мы сами, раздвинув их ноги, вылезли вон.
Так вылезают после бомбардировки из-под руин.
Мы не знали, кто из нас девочка, а кто мальчик,
и жрали землю, думая, что едим хлеб.
И наше будущее —
гимнасточка на тонкой нитке горизонта —
как она только не изгалялась
там.
Мы росли в стране, где
меловыми крестами метят двери
и среди ночи приезжают две-три машины
и увозят нас,
но в них сидели не мужчины
с автоматами
и не женщина с косой.
Так за нами любовь приезжала
и забирала с собой.
Только в общественных туалетах мы ощущали свободу,
где за двести рублей никто не спрашивал, чем мы занимались.
Мы были против жары летом, против снега зимой,
а когда оказалось, что мы и есть наш язык,
и нам вырвали языки, мы стали говорить глазами.
Когда нам выкололи глаза, мы стали говорить руками.
Когда нам отсекли руки, мы говорили пальцами на ногах.
Когда нам прострелили ноги, мы кивали головой вместо «да»
и качали головой вместо «нет».
А когда наши головы съели живьем,
мы залезли обратно в чрева наших спящих матерей,
словно в бомбоубежища,
чтобы родиться снова.
А там, на горизонте, гимнасточка будущего
прыгала сквозь огненный обруч
солнца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


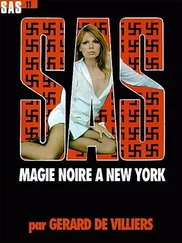
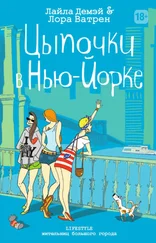




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)