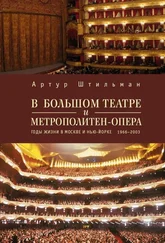Все-таки первое стихотворение, которое я считаю своим, появилось гораздо позже, когда мне было лет 27. Оно называется «The Unraveler» [374]. Я считаю его первым своим, потому что там совсем нет Бродского.
Где ты учился после школы?
После школы я учился в Бингемтонском университете, который для жителей штата был фактически бесплатным. Он входит в систему университетов штата Нью-Йорк SUNY (State University of New York). И хотя он был государственным и дешевым, при нем была отличная международная программа с большим выбором стран, куда можно было поехать, – ничуть не хуже, а может быть, и лучше, чем в частных университетах Ivy League [375]. Поэтому я два года проучился в Европе: на втором курсе в Ирландии и Германии (хотя нельзя сказать, чтобы я там особенно усердно учился), а на третьем курсе поехал в Париж. Год в Париже был для меня по-настоящему серьезным опытом, в том числе и языковым. Там ко мне вернулся русский. Я ходил к друзьям родителей и говорил с ними, естественно, по-русски. Посещал лекции Синявского.
Какой курс Синявского ты слушал? Какой была аудитория?
Курс о футуризме. Главным образом Синявский рассказывал о Маяковском и о Хлебникове. Он очень хорошо читал Маяковского. Сам Маяковский, конечно, читал иначе, но Синявский делал это так, что стихотворение сразу раскрывалось. Настоящих студентов в аудитории было немного. В основном это были люди, которые тогда просто жили в Париже.
Чем отличалась русская литературная жизнь в Париже от нью-йоркской?
В Париже еще чувствовались осколки первой волны. Кроме лекций Синявского в Сорбонне, я ходил в Institut d’études slaves (где, кстати, однажды слушал Бродского) [376]. Туда приходили какие-то бородатые старцы, которых никак нельзя было принять за третью волну. Но разница между русской литературной жизнью в Нью-Йорке и в Париже сводилась, наверное, к разнице между американской и французской культурами, к тому, как они взаимодействовали с русской. На сознательном уровне я этой разницы не ощущал (может быть, потому, что года два-три до этого ни в какой русской жизни не участвовал).
Расскажи о докторантуре в Стэнфорде.
В аспирантуру я пошел сразу после колледжа, что было большой ошибкой, потому что сначала нужно понять, чем хочешь заниматься. Но я дал себя уговорить. Оказался на кафедре славистики, где познакомился с Алексеем Парщиковым и Андреем Устиновым. Они поступили в аспирантуру в тот же год, что и я.
Парщикова привез в Стэнфорд Эндрю Вахтель. Шел 90-й год, в России все было неопределенно. Один год на втором курсе мы с Парщиковым вместе снимали маленький дом (аспирантское общежитие). Поначалу я не знал, кто это, то есть не понимал. Мы много пили. А через несколько месяцев Парщиков подарил мне свою первую русскую книжку «Фигуры интуиции» с поэмой «Я жил на поле Полтавской битвы». Там гениальные рифмы – то, что по-английски называется slant rhymes [377]. Барочность. На барокко я подсел отчасти из-за Бродского, который все время твердил «Джон Донн – Эндрю Марвелл, Джон Донн – Эндрю Марвелл», – и еще в колледже записался на курс по английскому ренессансу. Но читал я не столько Донна, сколько Томаса Уайетта, который до сих пор остается для меня главным поэтом XVI века. Поэтому, когда я прочитал «Полтавскую битву» Парщикова, мне она стала моментально понятна. Обэриутами я тоже стал заниматься отчасти под влиянием Устинова, который постоянно цитировал Введенского, и Парщикова, который читал наизусть «Время» Заболоцкого. Для меня это было откровением. Еще Парщиков познакомил меня с поэтами Language School, с Майклом Палмером. Вообще многие мои знакомства оттуда – из Стэнфорда, от Парщикова.
В аспирантуре я стал читать русскую силлабику XVII века и увлекся поэтом 1690-х годов Андреем Белобоцким. Он родился в Польше, в кальвинистской семье, учился, кажется, в Саламанке (или в каком-то другом иезуитском университете в Испании), перешел в католицизм, а потом попал в Москву, где работал в посольском приказе, перешел в православие. Его арестовали по доносу братьев Лихуд, но не казнили, а послали в Китай, где он был переводчиком при Нерчинском договоре, определившем российско-китайские отношения и границу двух государств [378]. Его лучшее произведение «Пентатеугум» состоит из пяти частей: смерть, страшный суд, ад, рай и Рим. Это перевод-компиляция немецких иезуитов с латыни и с польского на русский – то есть западное барокко, но на русском языке. Последняя глава – о Риме – исходит из неолатинской традиции стихов о Вечном городе. Кстати, когда читаешь римские стихи Бродского, эта традиция сильно чувствуется. А когда Бродский переезжал в Бруклин с Мортон-стрит, я и Майя – девушка, с которой я тогда жил, – распаковывали его книжки, и в одной из коробок я обнаружил книжку русской силлабики, изданную в «Библиотеке поэта» со стихами Белобоцкого [379]. Я хотел расспросить Бродского о нем, но как-то не решался, думал, потом спрошу. Никакого «потом», конечно, не было.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


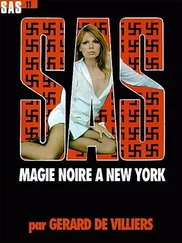
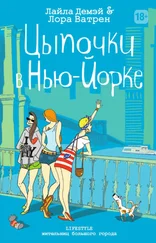




![О Генри - Алиса в Нью-Йорке [= Эльза в Нью-Йорке] [Elsie in New York]](/books/405329/o-genri-alisa-v-nyu-jorke-elza-v-nyu-thumb.webp)